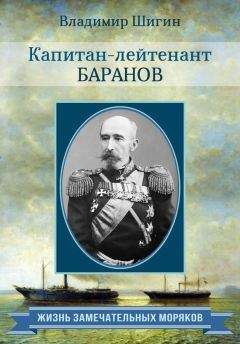Леонид Каганов - Ухо
Алла погасила свет, который ей мешал, и мы валялись на диване тихо-тихо, чтобы свет не мешал мне. И почти всё было хорошо. Почти – потому что мне очень хотелось смотреть в её глаза, дышать в её ушко, любоваться её потрясающими бровями и волосами, которые обычно в полумраке слегка растворялись и потому приобретали совершенно сказочные формы.
Но ничего этого больше не было. Я вслепую тыкался ртом в её нос, лоб, подбородок, а перед моим взором от края до края был совершенно иной мир – чудовищный, багровый, пульсирующий. Нелепыми механизмами в суставах вертелись кости, а изредка из суставных сумок вылетали красные искры. Острые углы извивающихся позвонков напоминали хребет обглоданной рыбы. Ребра шевелились как пальцы гигантского костлявого кулака, то сжимая сверкающие мешки легких, то приотпуская. Сердце стучало громко, как молоток, и быстро, как мигалка на милицейской машине. А на переднем плане шевелились скомканные в кучу мотки шлангов, бугристых подушечек и пузырей. В желудке плескался чай, бился как прибой на море, высекая искры. По кишечнику двигались слизистые комки бутерброда, а между ними сновали поблескивающие пузырьки… Может, всё это и было моей Аллой, женщиной, девушкой, девочкой, и, наверно, мне бы удалось в конце концов убедить в этом свой разум. Но убедить в этом мужской организм было невозможно.
– Что-то не так? – Алла вдруг замерла и приподнялась.
Я промолчал.
– Ты меня не хочешь… – пробормотала она. – Ты меня больше не хочешь…
– Очень хочу! – соврал я. – Просто я так сегодня устал…
– Что-то не так со мной? – спросила Алла с утвердительной интонацией.
– Что-то не так со мной! – заверил я. – Со мной! Что ты хочешь? Ты хочешь выработать во мне мужской комплекс? Чувство неполноценности, да?
Алла зашевелилась, змеёй выползла из-под меня и нервно села на диване, натянув одеяло по самые плечи.
– Ты меня любишь? – спросила она. – Честно?
– Люблю.
– Врёшь.
– Нет.
– Я чувствую… – она вдруг всхлипнула. – Я чувствую, что стала тебе противна!
– Да нет же! Нет!!! – крикнул я.
– Поклянись, что я тебе не противна!
– Не противна!
– Поклянись! Скажи: я клянусь, что ты мне не противна!
– Я клянусь, что ты мне не противна… – пробарабанил я.
– Чем клянёшься?
– Да всем клянусь! Алла, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем?!
– Я чувствую… – она нервно вдохнула. – Так надо… Лучше уж так, раз и навсегда… Поклянись чем-нибудь святым!
– Святым!
– Святым для тебя. Что для тебя святое? Любовью нашей поклянись!
– Алла, ты взрослый умный человек! Физик! Тебе не пятнадцать лет! Что же это за детский сад? Где логика? Если б я тебя не любил, я бы поклялся нашей любовью в чём угодно!
– Тогда поклянись жизнью своей матери… – вдруг твердо отчеканила Алла.
– Извини, но такими вещами я не клянусь никогда, – ответил я, прикусив губу.
– Всё ясно… – она принялась растерянно шарить по дивану в поисках трусиков и лифчика. – Какая же я дура… Поверила… Ослеп… Звуковой глаз… – Она опустила босые ноги на пол, яростно пнула под шкаф попавший под ногу бугристый шарик и с омерзением выдала: – Картошка!!! Телефон мой записывал!
Я завернулся в одеяло, но оно просвечивало насквозь. Алла умолкла, вышла в коридор и оттуда лишь нервно поблескивала синими искрами шуршащего плаща.
«Жж… Жжж-ж-жиииииии!» – ярко вспыхнула молния на одном сапоге, и кровавым маяком зло ударил в пол каблук. «Щ… Щщщщ-щ-щ-щииии!» – полыхнула молния на другом сапоге, и снова блеснула злая вспышка кровавого каблука. Я знал, что останавливать её бессмысленно. Защелка входной двери искрилась долго и нервно, но в итоге поддалась. Радиоактивной зеленью пронзили коридор лучи дверных петель. А затем в прихожей, что было сил, полыхнул красный пожар – яркий огонь ворвался в комнату, опалил пространство и растворился, глухо поворчав из дальних углов. И где-то там, на лестнице, забились кровавые маяки каблуков, отсчитывая ступени с предпоследнего этажа на первый.
* * *
Я лежал, не думая ни о чем. Мне хотелось спать, хотелось есть, хотелось выпить злосчастную бутылку водки, но больше всего хотелось вот так вот лежать в абсолютной тишине – не двигаться и не думать. И некоторое время мне действительно казалось, что мир хоть на чуть-чуть обрел покой и порядок. Не знаю, может, я бы так и заснул…
Но в какой-то момент этажом выше появились сосед и соседка. Похоже, вернулись из гостей. Долго болтались в лифте, долго сверкали ключом вокруг замочной скважины. Затем долго и ярко снимали ботинки и шлепали по полу босыми ногами, а между ними носилась и цокала их дебильная собачка.
Пошатавшись по квартире, эти две толстые немолодые туши врубили музыку, да так, что раскатистое «гумс-гумс» я мог расслышать даже собственными ушами. Музыка полыхала сквозь перекрытие и освещала заодно и этаж подо мной. Впрочем, они так делали нередко, но только раньше мне это было безразлично. Зато теперь я понял, для чего они врубают музыку. Оказалось – из пуританских соображений, специально для соседей. Чтобы заглушить скрип своей поганой раздолбанной кровати.
Лучшего обзора придумать было нельзя – прямо надо мной оказалась ярко освещённая арена. Из угла комнаты как два прожектора её освещали грохочущие колонки – ровным контурным светом. А подиум подсвечивался скрипящей во все стороны кроватью – она вспыхивала, выстреливала, искрила и напоминала праздник фейерверков. Ну а посередине этого праздника бултыхались две жабы с неровными и колыхающимися как у студня краями. Зрелище было, прямо скажем, уродливое. Господи, ну зачем? Зачем мне это знать? Ведь мне была симпатична эти пухлая пара соседей сверху – простоватые, но улыбчивые и доброжелательные. Я их и видел-то раза два в жизни, и думать не думал о них ничего плохого. А теперь как я им буду в глаза смотреть?
Я перевернулся на живот. Всюду жизнь. В свете грохочущей наверху арены квартирка снизу казалась сумрачным подвалом, заставленным вещами и мебелью. Зачем людям столько вещей? Полный абсурд – и без того крохотную нору заставить стенками, шифоньерами, тумбами, трельяжами, и всё это забить шмотками, шмотками, шмотками… Судя по двум швейным машинкам… если это швейные машинки… да, точно, машинки. Судя по машинкам, это квартира старушки, которая копила добро всю жизнь. Уехала ли старушка к родне погостить, умерла ли, легла на недельку в больницу с радикулитом, просто переехала на другую квартиру – этого я не знал, потому что никогда не видел соседей снизу. Зато теперь они были как на ладони, хоть и в полумраке. Подростки на ковре, валяющиеся вповалку – три мальчика, две девочки. Лет шестнадцать, может восемнадцать. Не трахаются, не обнимаются – курят, жестикулируют. И ещё один, чуть постарше, на кухне – что-то готовит. Я повернулся, стараясь разглядеть, что происходит в той кухне, но видно было неважно. Кофеварку он держит над газом что ли? Тихо сидят как мыши, и ковры на полу толстые, глушат свет. Я задумчиво повалялся ещё минут пять, и тут старший вернулся с кухни в комнату со своей кофеваркой. Чем он занимается, разглядеть было нелегко, но молодежь оживилась и сползлась к нему, вытягивая вперед руки… Я постарался вглядеться и понять, что же означают эти странные замершие позы, и что делает старший, медленно ползая среди них и ощупывая каждую руку, что к нему протягивали. И вдруг меня прошибло потом – отсюда я не мог рассмотреть, что это за предмет, но мог поклясться: шприц…
Я сел на диване, рывком откинув одеяло. Господи, ну зачем ты шлёшь мне эти мерзкие видения? Если я ничего не могу сделать? Спуститься, позвонить в дверь и строго зачитать душеспасительную нотацию? Или вызвать туда милицию? Чтобы их пораскидали по колониям и уж точно угробили? Да пропадите вы пропадом…
Я оделся, вышел на кухню, достал бутылку водки, вынул рюмку и подул на неё, стряхивая пыль. Извлёк из холодильника остатки хлеба и сыра. Налил рюмку до краёв и обернулся к Гейтсу. Тот запрыгнул на табуретку возле меня и зевнул так, что пасть вывернулась почти в обратную сторону.
– Давай-ка, Гейтс, помянем с тобой разные хорошие штуки, которые я потерял… – я поднял рюмку.
Гейтс недовольно мяукнул.
– Извини, – сказал я, опустил рюмку, вылез из-за стола и насыпал ему корма.
Гейтс начал лопать, я снова поднял рюмку и начал:
– Гейтс, а Гейтс? Давай-ка с тобой помянем компьютер. Понимаешь, Гейтс… Да ничего ты не понимаешь… Ты работал когда-нибудь за компьютером, Гейтс? Нет? А что тебе мешает, если у тебя есть глаза? По ноутбуку ты, помнится, топтался, грелся на нём, когда я приносил с работы… Ты вообще понимаешь, что такое компьютер, Гейтс? Компьютер – это когда вся твоя жизнь лежит на твоём столе и одновременно по всему миру. Это фотографии из Турции, куда ты ездил с Аллой. Это вся переписка, вся работа, все фильмы, все книги, вся музыка… А ещё интернет, где скоро будет вообще всё, что люди собрали за свою многотысячную историю, только задай вопрос – и подставляй мешок для ответов. И вот всё это у тебя много лет было, а теперь отобрали. Понимаешь? – Мне показалось, что Гейтс кивнул. Хотя он стоял ко мне задом и просто тыкался мордой в миску с кормом. Я поднял рюмку: – Прощай, компьютер!