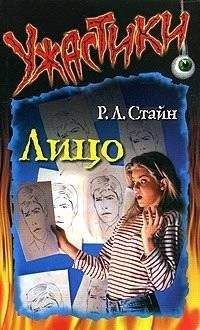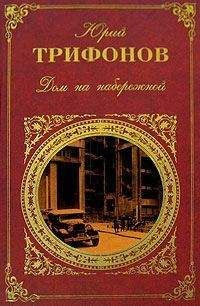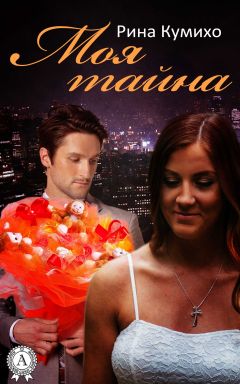Рэмси Кэмпбелл - Новый круг Лавкрафта
В полной темноте человеческий глаз мог бы различить лишь подпрыгивающий и подрагивающий огонек фонаря в руке почтеннейшего ночного сторожа, который старательно обходил могилы, шаркая по дорожкам между ними, и то и дело прикладывался к бутылке, которую, как мы знали, он никогда далеко не убирал. Мы наблюдали за ним с горьким и тихим весельем, затаившись до времени в укрытиях потемнее — кто-то за огромным корявым дубом, кто-то за особенно высоким надгробием, а кто-то и в тени могильного холма. Мест, где можно спрятаться, на кладбище хватало. Когда фонарь проплывал особенно близко, мы поджимались поглубже в тень и продолжали безмолвно наблюдать за обходом — мы не пошевелились даже тогда, когда пошатывающийся смертный пробрел рядом с могилой, интерес к которой столь настоятельно призвал нас на встречу.
В могиле покоился Роули Эймс, коего все участники полуночных оргий и вкушатели запретных удовольствий прекрасно знали и почитали. Роули Эймс! Да, его артистизм и глубокие познания в искусстве вурдалачества снискали ему заслуженные славу и уважение. Да что там, его просто боготворили! Он был наш Мастер, и всякий юный некрофаг почел бы за честь учиться необходимым навыкам под руководством этого вдохновляющего примером и окрыленного собственной музой ночного ходока, наблюдая за каждым его шагом и подражая его гениальной способности абсолютно точно выбрать подходящее время и место для нападения, а потом в восхищении созерцать, как он эксгумирует тщательно отобранный объект из укрывающей его плоть земли и проводит следующий час за трудолюбивым расчленением и затем угрызанием, покусанием и выкусыванием, да так элегантно и преаппетитно, что ты понимаешь — да, перед тобой настоящий знаток своего дела.
Я сам многому научился у сего мужа, и я пришел сюда этой ночью, как и другие мои коллеги, воздать покойному последние почести — не скучными надгробными речами, как мы это сделали на его вполне условных похоронах несколько недель тому назад, а подлинно последним, особым жестом уважения. Мы все с самого начала сознавали, что единственный способ отплатить доброму малому Роули Эймсу за годы ученичества и наставничества — это собраться у его могилы для подлинного празднества, которое заключалось бы в поедании его собственного тела, столь долго насыщаемого другими телами в разной стадии разложения.
Конечно, то был бы акт, исполненный символического значения, на собрании присутствовали бы двенадцать членов нашего маленького трупоедского клуба, изначально состоявшего из тринадцати гурманов — однако наш прежний лидер, увы, покинул наш тесный круг; и, конечно, каждому из нас в его теле, в особенности в том виде, в каком его опустили в могилу — а именно, после тяжелой и продолжительной болезни, — досталось бы плоти буквально на один укус — однако и одного кусочка было бы довольно, ибо мы полагали, что он бы желал, чтобы ученики именно таким образом почтили бы его память. И мы прождали, по общему согласию, несколько недель, дабы тело должным образом разложилось, и вот теперь час настал. Как говаривал гастроном Брилья-Саварен, лишь «человек умный и рассудительный знает, как и когда начинать трапезу».
Я ждал — с некоторым понятным нетерпением — и наблюдал из укрытия, как, понятное дело, ждали и наблюдали другие. Наконец шаркающий лампадоносец завершил обход и уплелся к себе в ветхую хибару близ главных ворот. Вскоре он провалился в крепко настоянный на винных парах сон, и мы вышли из тени для совершения дела, ради которого здесь собрались.
Под бледной луной мы собрались у могилы Роули Эймса и молча обменялись понимающими взглядами. Могилу ему вырыли, конечно, не в том чудном уголке, столь милом нашему чувству прекрасного, а в новой части кладбища — аккурат посреди посмертных обиталищ объектов его гастрономического внимания. Хм, а ведь это можно счесть любопытной гримасой судьбы: могилы по обе стороны от его надгробия он сам некогда старательно, что называется, руками и зубами, осквернил. А теперь пришла и его очередь — ибо над могилой стояли мы.
Ах, словами не передать, с каким увлечением, благоговением и предвкушением разбрасывали мы подлую гадкую землю, как самозабвенно рылись, лишь изредка посматривая, не подглядывает ли кто за нами, или время от времени обводя уважительным взглядом вполне ужасный, чрезвычайно подходящий для нашего дела окружающий пейзаж — в небе стоит бледная луна, ивы судорожно царапают ветками по замшелым надгробиям… Мы уже захлебывались слюной, а челюсти уже сами собой двигались, словно вгрызаясь в вожделенную, добытую из-под земли плоть. Мы отчаянно быстро вскрывали гроб, а мысли мои были об одном — какое же искреннее уважение я питаю к Мастеру. Впрочем, по правде говоря, это было не все: меня, конечно, повергала в экстаз сама мысль, что сейчас я отведаю плоти того, кто сам несчетное количество раз питался выдранной из гробов добычей стервятников. И так, погруженный в сладостные мечты, я наткнулся вымазанной в липкой земле рукой на нечто твердое и понял — праздник вот-вот начнется!
Постанывая и тяжело дыша от усилий, мы выволокли гроб на ровную землю и собрались в круг — все смотрели тревожно и с любопытством. Вот, под этой жуткой, ущербной луной, посреди безлюдного кладбища, под колышемыми ночным ветром ветвями собрались мы — его ученики, чтобы причаститься его тела и так выразить свое восхищение Мастером. Мы прошептали приличествующие такому торжественному случаю кощунственные молитвы и, благословясь, вскрыли гроб.
Некоторое время мы смотрели внутрь, ничего не понимая. Благодаря какому-то немыслимому капризу природы Роули Эймс оставался живым! Он был — жив! По крайней мере, он шевелился и дергался — но как-то резковато, словно в агонии. Что же получается, он умирал вторично?
Однако не по этой причине мы бросились в стороны от гроба, охваченные отвращением и растерянностью — нет, совсем не потому, что он странным образом обрел способность двигаться, и даже не потому, что он разразился злым, саркастическим смехом, едва завидев наши нависшие над гробом лица. Мы, напротив, как раз были бы весьма рады приветствовать столь неожиданно вернувшегося в мир живых Мастера — и уже точно бы не улепетнули прочь в ночную тьму, оставив его лежать в одиночестве у могилы в том виде, который на следующее утро подробно описал морщащийся от отвращения репортер.
Нет. Нас потрясло и обескуражило то, что закоренелый вурдалак Роули Эймс лежал в гробу с отвратительно разбухшим брюхом и полностью обглоданным телом — причем обглоданным самым мерзким образом — до костей и облепленных могильными червями сухожилий. Этот поганец не стал ждать так долго, как мы, и, немыслимо изогнувшись и чуть ли не завязавшись в своем гробу узлом, взял и обожрал собственный разложившийся труп.
Дэвид Кауфман
ЦЕРКОВЬ В ГАРЛОКС-БЕНДЕ
Выше Скрантона река Сускеханна становится уже и извилистей, а окрестности ее гораздо живописней здесь, когда она закладывает петли, вытекая из Нью-Йорка, чем в южной ее части, где она течет плавно и величественно. Причем течет она по краям настолько отсталым — и это несмотря на то, что штат этот по праву считается густонаселенным, — что человеку, путешествующему в холмах Северной или Центральной Пенсильвании, нелегко набрести на дюжину или более городков, состоящих из от силы двадцати домиков, ну и магазина и, может быть, церкви — городков, кои время и прогресс, похоже, совсем позабыли. А люди, в них обитающие, не то чтобы недружелюбны — нет, они просто неохотно привечают чужаков, да и не особо интересуются тем, что происходит в остальном мире.
Вот по течению от Водоворота Скиннера стоял как раз такой городок — Гарлокс-Бенд. Я вырос на ферме всего лишь в нескольких милях ниже по течению, и мои первые воспоминания о нем ленивы и медлительны, словно напоены летним зноем над зелеными холмами. Сейчас это, конечно, выморочное место — просто скопище ветхих и нуждающихся в ремонте строений, некоторые из которых уже угрожающе покосились. Гнилое дерево на прогнившем фундаменте, одним словом. Но во времена моего детства то был процветающий город — во всяком случае, по меркам такого захолустья, как наше, в нем просто кипела жизнь.
А все из-за реки. Из-за реки и твари, что поселилась в реке, душа покинула город, а с ней ушли и люди. Они уезжали — просто уезжали, ничего не объясняя. Одна семья, затем другая, потом две сразу — а потом они все уехали. И город так и остался стоять — пустой. Вымерший.
Гарлокс-Бенд стоит прямо на реке — или, лучше сказать, на том месте, где она разливается широким плесом. Мы, со своим типично пенсильванским голландским энтузиазмом, часто называем это место озером, однако это просто очень широкий участок медленного течения — река вырывается из узкой расселины между холмами и постепенно успокаивается, набирает глубину и разливается. А церковь — та и вовсе стоит прямо над водой, в роскошной тени огромного платана. На все это стоило посмотреть, спустившись чуть ниже по течению — на деревья, на сам городок, на церковь и на высокие холмы за ними. Да уж, в те времена к Гарлокс-Бенду можно было привязаться всей душой.