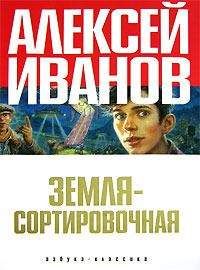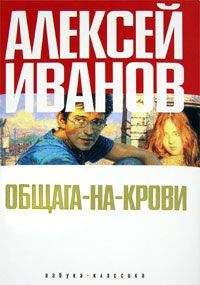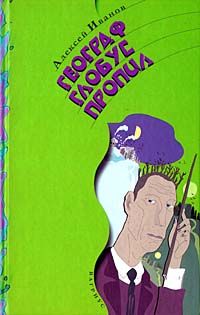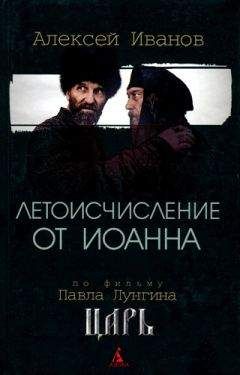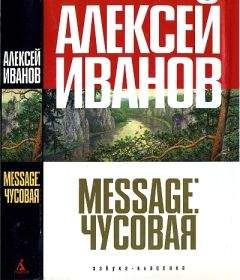Алексей Иванов - Земля - Сортировочная
ГЛАВА 11
Как я oc в o б o дилсяЧтобы стала ясной судьба бесценной информации, за которую заплатил жизнью шпион Бабекус (но которая все-таки попала в руки врага), вернемся на несколько минут в дом Барбариса. Тем более что и моя судьба зависела от этого.
Дядя Толя примчался домой от тетки Рыбец, которая все ему про меня рассказала, и тихо-тихо, совершенно неподвижно стоял в дверях. Барбарис мышью сидел за печкой и тоже не издавал ни звука. Так они подлавливали друг друга на шум, как на блесну, и наконец, не дождавшись результата, дядя Толя позвал:
– Борька! Барбарис молчал.
– Борька!…
– Чего? - неохотно отозвался он.
– Поди сюда.
– Зачем?
– Поди, кому сказал!
Барбарис тяжело поднялся и вышел к отцу.
– Ты о чем давеча с Вовкой за воротами говорил?
– Ни о чем… - занудливо ответил Барбарис.
Они посмотрели друг другу в глаза, как пистолеты дуэлянтов. Дядя Толя стал рывками вытаскивать свой широкий ремень из петель на штанах.
– Я вот тя щас научу, как с отцом надо говорить, - многообещающе сказал он.
– Бать, ты чего?… - заныл Барбарис, косо глядя на ремень.
– Тогда о чем с Вовкой болтал?
Хлопая ремнем по ноге, дядя Толя навис над сыном, грозно вылупившись на него и схватив за рубашку на животе.
– Ночью на Тиньву идти хотели… - гнусавя, соврал Барбарис и шмыгнул носом.
– Врешь! - констатировал дядя Толя и тряхнул его. - Сымай штаны!
– На вагонах кататься собирались… - уже безнадежно ответил Барбарис и увидел, как ремень злобно взвился над головой отца и щелкнул.
– Врешь, врешь! - яростно закричал дядя Толя и принялся трясти Барбариса, размахивая ремнем.
Огромные слезы покатились из глаз несчастного Барбариса. Голова его болталась из стороны в сторону.
– Говори! - загремел отец.
– Он на станцию посыла-ал!… - не удержавшись, раскололся Барбарис и разревелся совсем. - К Пал-кину-у!…
– Зачем?! - не унимался отец.
– Сказать, что все шпионы-ы!…
– А почему к Палкину?… Говори, не вой!
– Сказал, что там Штаб и Карта-а!…
– Так! - страшным голосом воскликнул дядя Толя, словно ему внезапно отдавили ногу. Он стал лихорадочно всовывать ремень обратно. Надо было срочно предупредить Лубянкина.
Я же, злой, как комар, сидел в погребе.
Точнее, не сидел, конечно, а томился. На ощупь я сразу нашел банки с солеными огурцами и долго прикладывался к их запотевшим бокам своим раскаленным ухом. Успокоив боль так, что изнывал только непосредственно сам черешок, я принялся за обследование.
В погребе было тесно, холодно и грязновато. У стен стояли ящики и мешки, на полках - штук миллион банок. Наверх вела прочная лестница. Я забрался туда и сквозь щели, вывернув голову, посмотрел на волю.
Выбраться было сложно.
Я спустился обратно и с большим трудом вырвал штук шесть ступенек внизу у лестницы. Седьмую я тоже выдрал, но оставил еле-еле держаться. Потом я отыскал банку с вареньем и откупорил ее. Теперь оставалось только ждать и надеяться.
Спустя минут десять замок наверху лязгнул, и светлый проем закрыла морда тетки Рыбец.
– Ты здесь? - спросила она.
– Здесь, тетенька, - тоненько ответил я и взял на изготовку банку с вареньем.
– Принимать будешь, - сказала Рыбец кому-то наверху и полезла вниз.
Ее туша медленно, как гусеница, поползла по лестнице, пока роковая ступенька не хрустнула под стопой. Туша надо мной дрогнула, квакнула, а потом грянулась на пол, тюкнувшись, словно сырое яйцо.
Я поднял банку с вареньем и опрокинул над головой тетки Рыбец. Варенье в один миг окатило ее верхнюю часть. Рыбец вжала в плечи обтекаемую, как фюзеляж, голову, жирно блеснувшую в свете с улицы, и, откупорив рот, прохрипела:
– Ерепена крача!…
Крупные клубничины ползли по ее лицу. Я взлетел вверх по лестнице и носом к носу столкнулся с Лубянкиным.
– Э, пацан… - непонимающе сказал Лубянкин, и я, переволновавшись, вдруг ухватил его за этот самый нос.
– Адбузди, - плачуще попросил Лубянкин.
Я толкнул его назад. Он засуетился, открывая мне дорогу.
– Не дергай, дядя Лубянкин, - предупредил я, вылезая на свет. - Носоглотку отойму!
Он не шевелился: стоял, оттопырив зад, расставив руки, зажмурившись и оскалившись. Я обошел его по вершине горки, куда вела нора погреба, разворачивая, как флюгер. У Лубянкина по щеке покатилась совсем не милицейская слеза. Я отпихнул его и запрыгал вниз, во двор.
– Гаденыш! - вскрикнул Лубянкин и, махая руками, устремился вслед за мной во двор дома тетки Рыбец.
Я уже ничего не боялся.
Я пулей пролетел над землей и ударился в большие тесовые ворота. Ворота загремели, массивный засов прыгнул в скобах - не засов, а целая шпала. Я попробовал вытащить его, но фиг чего вышло. Лу-бянкин приближался.
Под носом у него я нырнул в крытое подворье добротного дома Рыбец. Следом за собой я захлопнул тоненькую дверцу и накинул крючок. Другая дверь, ведущая на улицу Долорес Ибаррури, была заперта на врезной замок.
«Западня!…» - понял я и занервничал, бешено размышляя сразу в нескольких направлениях.
Лубянкин с улицы могуче рванул дверь, и крючок слетел с петли. Я метнул в него попавшееся под руку цинковое ведро. Слыша, как он борется с ведром, катаясь по полу, я взбежал по ступенькам в прихожую и захлопнул другую дверь: толстую, как в холодильнике, и обитую дерматином.
Ее Лубянкин вышиб двумя руками и по инерции пролетел мимо меня. Отрезанный от всех путей отступления, я в панике юркнул в чулан.
В чулане было сумрачно и пыльно. Стояли кованые дореволюционные сундуки, накрытые половичками. В углах сушились банные веники, наполняя каморку волнующим запахом. На полках вдоль стен выстроился еще один миллион пузатых и мохнатых банок. Особняком высились четыре трехлитровые банки с брагой. От могучего внутреннего напряжения они, кажется, даже дрожали, а крышки на них вздулись.
Дверь распахнулась во всю ширь. В проходе возник Лубянкин. Он дышал так тяжело, что при вздохе увеличивался почти вдвое.
– Попался, гад, - сказал он.
Как артиллерист-батареец у орудия достает снаряд из снарядного ящика, так и я достал увесистую банку браги, развернул ее горлом к Лубянкину и врезал кулаком по дну.
Банка взорвалась, подскочив в моих руках. Мутная, тяжелая струя ударила Лубянкина под дых, окутав облаком непроходимого сивушного духа. Лубянкин согнулся пополам, высунув язык и выпучив глаза.
Отбросив банку, как гильзу, я схватил другую и пальнул второй раз, отшвырнув его в прихожую.
Лубянкин обеими руками судорожно вцепился в косяк. Он как-то запрокинул лицо, словно не мог надышаться или, наоборот, чихнуть. Но я сорвал с полки третью банку. Этот залп отодрал Лубянкина от косяка и пластом уложил на пол возле дальней стены прихожей.
Лубянкин лежал в луже самогонки и икал. Вооружившись последней банкой, я подошел и остановился над ним.
– Хватит, Вовик, - просипел он, ворочая в луже руками.
– Собаке собачья смерть, - ответил я и долбанул кулаком по донышку.
От удара струи Лубянкин всплеснул руками и ногами, как колдун, в которого законопатили кол, и хрюкнул. Глаза его закрылись, и больше он не шевелился.
Я поставил банку около него и вышел, осторожно прикрыв дверь. Через двор, свинарник и столовку я выбрался на улицу и побежал к дому начальника станции товарища Палкина.
P . S . Эта глава дает понятный ответ на вопрос, множиство лет мучевший всех мыслителей и гумонистов мира. Все они не могли прийти к решенею, а я смог, потомучто операюсь на жызненые факты. «Должно ли добро быть с кулоками?» - спрашевали они. Я поесняю, что добру убивать зло собственоручно незачем и опасно. Добро должно быть хитрым. Оно должно просто натравить одно зло на другое и победить, когда они друг друга укокошат. Вот я натравил друг на друга два зла - Лубянкина и самогоноваренее - и вышел победитилем.
ГЛАВА 12
Улица, по которой я бежал, была пустынна и неподвижна. Горячий воздух замер. Вокруг было тревожно и странно.
Огородами я добрался до улицы Нельсона Ман-делы, где в красивом финском коттедже жила семья Палкиных.
Я погрузился в акацию и проник к штакетнику Палкиных. Отодрав доску, я пробрался внутрь и влез в шиповник. Шипя и дергаясь от уколов и царапин, я наконец-то дополз до грядки с гладиолусами под окном. Окно было открыто. Сквозь тюлевую занавеску я видел, что товарищ Палкин сидит за столом и работает.
– Петя, ну ты скоро придешь?… - услышал я голос его жены из глубины дома. Она, похоже, уже легла спать и ворочалась с боку на бок, ожидая мужа.