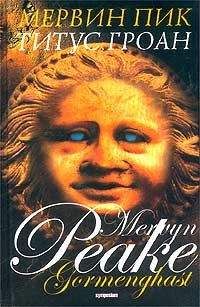Мервин Пик - Титус Гроан
Снова он поднял ладонь и снова воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь тяжким, возбужденным дыханием.
— Теперь шкажите мне, мои вонющие херувимшики. Шкажите и шкажите как можно быштрее — кто я ешть? Шкажите как можно быштрее.
— Свелтер, — завопили они, — Свелтер, господин! Свелтер!
— И это вще, што вы жнаете? — пал сверху голос. — И это вще, што ты жнаешь, маленькое море лиц? Тогда молщять! И шлушать меня полутче. Меня, главного повара Горменгашта, мужем и мальщиком, шорок лет, в щиштоте и щаде, в дождь или в шнег, в пыли и опилках, бараны и лани и прочие, и вще они жарятся в меру и поливаютщя алоэвым шоушом с щютошкой оштрого перщика.
— С чуточкой острого перчика, — взвыли поварята, пихая друг друга локтями. — Можно мы сготовим его, господин? Прямо сейчас, господин, и плюхнем в медный котел, господин, и размешаем. Ох! какая вкуснятина, господин, какая вкуснятина!
— Молщять! — рявкнул главный повар. — Молщять, мои шветлые мальщики. Молщять, рыгающие ангелятки. Приближьтеш, приближьтещ ш вашими шметанными лищиками, и я шкажу вам, кто я ешть.
Не разделявший всеобщего возбуждения юноша с вздернутыми плечами, вытащил кургузую трубку узловатого, червями источенного дерева и неторопливо набил ее. Рот его был напрочь лишен выражения, губы не изгибались ни кверху, ни книзу, глаза же темнели и тлели от зрелой ненависти. Глаза оставались полуприкрытыми, но то, что им хотелось сказать, клубилось за ресницами, пока он вглядывался в человека, опасно кренившегося на винной бочке.
— Шлушайте хорошо, — продолжал голос, — и я шкажу вам кто я, а пошле шпою пешню и вы будете жнать, кто вам поет, мои гадкие бешмышленные филейщики.
— Песню! песню! — вступил визгливый хор.
— Во-первых, — объявил повар, наклоняясь и роняя каждое задушевное слово, будто облитое сиропом пушечное ядро. — Во-первых, я никто иной как Абиата Швелтер, а это жнащит, ибо то вам не ведомо, што я ешть щимвол доштатка и превошходштва. Я отец доштатка и превошходштва. Так кто я такой?
— Абафа Свелтер, — ответил общий вопль.
— Абиата, — медленно повторил он, напирая на срединное «а». — Абиата. Какое имя я вам нажвал?
— Абиата, — ответил повторный вопль.
— Вот и правильно, и верно, Абиата. Вы шлушаете, мои хорошенькие паражиты, вы шлушаете?
Поварята уверили его, что слушают очень внимательно.
Прежде чем продолжить, главный повар еще раз приложился к бутылке. На сей раз он стиснул горлышко зубами и, откинув голову так далеко, что бутылка стала торчком, осушил ее и выплюнул, отправив в полет над зачарованной толпой. Звук, с которым черное стекло вдребезги разбилось о каменные плиты, потонул в одобрительных кликах.
— Еда — объявил Свелтер, — божештвенна, а выпивка нежит душу, и вмеште они шуть цветошки, а ягодки — гажы в брюхе. Такие гажовые цветошки. Подойдите поближе, подкрадитещ поближе, и я вам шпою. Шладщяйшее щердце мое вожнещетца к штропилам и пропоет вам пешню. Штарую пешню великой пещяли, шамую шлежную пешню на швете. Подойдите поближе.
Еще ближе притиснуться к шефу поварята никак не могли, но они усердствовали, толкаясь, вопя, требуя песню, запрокидывая вверх потные лица.
— О, што за прелешная груда маленьких тушек, — вымолвил Свелтер, озирая их и вытирая ладони о толстые бока — вверх-вниз. — Тушек, из коих вытоплен лишний жир. Да, таковы вы и ешть, только щють-щють недожаренные. Шлушайте, петушки, я жаштавлю ваших бабушек шладко жаержать в могилах. Мы жаштавим их жаержать, мои дорогие, жаштавим — вот так новошть для них и для глодающих их щервей. Где тут Штирпайк?
— Стирпайк! Стирпайк! — взревели юнцы. Стоявшие впереди приподнимались на цыпочки и вертели головами, стоявшие в задних рядах вытягивали шеи вперед и озирались вокруг. — Стирпайк! Стирпайк! Он где-то здесь, господин! Здесь он, здесь! Да вон он, господин! За той колонной, господин!
— Молщять! — рявкнул повар, поворачивая тыквовидную голову в направлении, указанном множеством рук, меж тем как юношу с задранными плечами уже вытолкнули вперед.
— Вот он, господин! Вот он!
Юный Стирпайк, застывший у подножья монструозного монумента, казался неправдоподобно маленьким.
— Я шпою для тебя, Штирпайк, для тебя, — прошептал повар и, покачнувшись, ухватился рукой за каменную, лоснившуюся от жаркой росы колонну, по канелюрам которой стекали струйки влаги. — Для тебя, новищек, унылый шептун и летний шлижняк, — для тебя, отвратный, лукавый, пугающе глупый кожлик в доме шмрада.
Поварята радостно заколыхались.
— Для тебя, для тебя одного, мой шгуштощек кошащей желщи. Для тебя одного, так внемли же моим поущениям. Ты внемлешь? Вщем ли шлышно? Ибо это ему пошвящаетщя пешнь. Моя штолетней давношти пешня, жалобная, шамая грушная пешня.
Свелтер, казалось, тут же забыл, что собирался петь, и вытерев потные руки о голову ближнего юноши, снова воззрился на Стирпайка.
— Но пощему тебе, мой лущик протухшего шолнца? Пощему тебе одному? Можешь быть уверен, мой милый маленький Штирпайк, — можешь быть шовершенно уверен, што ты, шождание, нищтожнейшее крови шлепня, вещьма удален от вшего, школько-нибудь приближенного к природе — однако, шкажи мне, а лутче не говори, жащем твои уши, преднажнащенные ижнащяльно для уловления мух, по какой-такой прищине, тебе ведомой лутче, нежели вшем оштальным, раштопырилищ штоль неприштойно? Што ты еще вожнамерился ущинить, плавая в этом прокишлом теште? Ты бродишь вжад-вперед на швоих нищтожных ножках. Я видел, как ты это делаешь. Ты наполняешь швоим дыханием вщю мою кухню. Ты ожираешь ее швоими наглыми швиншкими глажками. И это я тоже видел. Я видел, как ты глядишь на меня. Ты и теперь глядишь на меня. Штирпайк, нетерпеливый мой неражлущник, што это вще ожнащяет и пощему я должен петь для тебя?
Отклонившись назад, Свелтер, похоже, на миг задумался над этим вопросом, отирая лоб рукавом. Впрочем, ответа он не ждал, он лишь откачнул в стороны две руки, как два маятника, так, что где-то на нем затрещала рвущаяся ткань.
Стирпайк пьян не был. Стоя у ног господина Свелтера, он не испытывал ничего, кроме презрения к человеку, который только вчера ударил его по голове. Но и сделать он ничего не мог, лишь стоять, где стоял, ощущая тычки и щипки Свелтеровых прихлебателей, и ждать.
Сверху снова полился голос.
— Эта пешня, о мой Штирпайк, обращена к воображаемому монштру, шовшем такому, каким штал бы ты, будь ты вдвое больше и еще гнушнее. Это пешня для жештокощердого монштра, так што шлушай ее внимательно, мой маленький гнойнищок. Ближе, ближе! Што ж вы, не можете подтянутьщя поближе, штобы ушлышать щей погребальный шедевр?
Выпитое, добравшись до головы главного повара, удвоило свои подрывные усилия. Теперь он криво обвисал, привалясь всем телом к потливой колонне.
Глаза Стирпайка глядели на него из-под высокого костлявого лба. Глаза повара выпирали наружу, как налитые кровью пузыри. Одна рука свисала, точно у мертвеца, вдоль желобчатой опоры. Огромное лицо набрякло, расплылось. Оно блестело, как студень.
В лице образовалась дыра, из которой вновь поплыл голос, ставший вдруг слабее и тише.
— Я Швелтер, — повторил голос, — великий шеф Абиата Швелтер, повар его шветлошти, я вщегда на пошту, на борту вщех кораблей, што плывут по школьжким волнам, мужем и мальщиком, и девощки в лентах, и кущя кухонь, шорок лет в жару и в штужу, плати только денежки, а я тут, толштый и волошатый волшебник! Великий пещенник и шкажитель! Шлушайте вще, шлушайте лутче!
Свелтер, не поведя плечьми, свесил голову на залитую вином грудь, пытаясь понять, готовы ли его слушатели вникнуть в начальные ноты. Однако ему удалось разглядеть лишь «мелкое море лиц», к которому он взывал, да и это море почти беспросветно скрывал текучий туман.
— Шлушаете?
— Да, да! Песню, песню!
Свелтер свесил главу еще ниже, совсем приблизя ее к мерцающей водной пыли, и слабо воздел правую руку. Он неуверенно попытался отлепиться от колонны, принять более внушительную позу, достойную строк, которым вот-вот предстояло излиться, но сил, чтобы разогнуться, ему уже не хватало, понизу его лица расползлась гигантская, бессмысленная улыбка, и господин Флэй, чей тонкий и жесткий рот подергивался, изгибаясь книзу, увидел, как повар понемногу обваливается вовнутрь себя самого, словно сворачиваясь в предвкушении неминуемой смерти. В кухне стало тихо, как в жаркой могиле. Несколько погодя безмолвие оживилось слабыми булькающими звуками, но были ль то первые строки долгожданных стихов, сказать никто бы не взялся, ибо повар, как галеон, достиг, наконец, долгожданной гавани. Огромные паруса обвисли, затем в трюмы устремилась вода и колоссальный корабль пошел на дно. Раздался звук, словно нечто расплющилось, и пространство в семь каменных плит скрылось из виду под раскисшей массой пропитанной вином медузы.