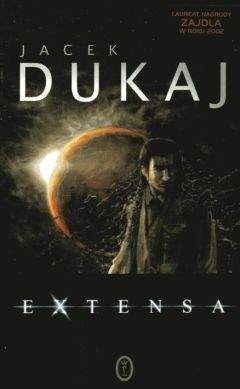Яцек Дукай - Иные песни
— На корабле, когда впал в меланхолию, ты мог рассказывать очень долго…
— Потому что, то были чужие рассказы, — усмехнулся под носом Зайдар.
— Не поняла, — рассердилась Трепт. — Так что выходит? Враки были? Врать ты, выходит, умеешь?
— Дело не в том, — тихо отозвался пан Бербелек, отламывая хлеб. — Истории, повторяемые за кем-то, могут быть неправдивыми, и это нас освобождает от ответственности. Зато, говоря о собственных приключениях…
— Что? — перебила та его. — Что ты, собственно, хочешь сказать? Будто откровенным можно быть лишь во лжи? Такие зеноновки[1] хороши лишь для детей.
Пан Бербелек пожал плечами.
— Я люблю делиться рассказами, — буркнула Хайнемерле. — Какой смысл ездить по свету, если никому не рассказать о том, что видел?
Перед тем, как подали десерт, Ньюте подписал банковские письма с личными премиями, не зависимыми от гарантированных договором четырех процентов прибыли для капитана и двух для навигатора. Трепт начала многословно благодарить, Зайдар даже не глянул на свое письмо.
Иероним коснулся его плеча.
— Спокойная старость?
Ихмет сделал жест, защищающий перед Аль-Уззой.
— Уж лучше, нет. Хотя, да, эстлос, ты прав — уж начинаю считать теряющееся время. Недели в море… капли крови в клепсидре жизни; я чувствую каждую из них, они спадают словно камни, так что человек вздрагивает…
— Жалко?
Перс задумчиво глянул на Иеронима.
— Наверное, нет. Нет.
— И что теперь? — семья?
— Они давно уже обо мне забыли.
— Так что?
Зайдер указал взглядом на Трепт, все еще шутливо спорившую с Кристофом.
— Пожирать мир, как она. Еще немного, еще чуть-чуть.
Пан Бербелек наслаждался сладким сиропом.
— Мммм… Пока имеется аппетит, так?
Перс склонился к Иерониму.
— Ведь это заразно, эстлос.
— Мне кажется, что…
— Честное слово, можно заразиться. Возьми себе молодую любовницу. Пускай она родит тебе сына. Переберись в корону другого кратистоса. На южные земли. Побольше солнца, побольше ясного неба. В морфу молодости.
Пан Бербелек гортанно рассмеялся.
— Я над этим работаю. — Он набрал себе и соседу ореховой пасты. Зайдар поблагодарил жестом. — Что же касается ясного неба… Вилла под Картахеной. Валь дю Плюа, место красивое, очень гладкий керос. Было бы тебе интересно?
— У меня уже есть немного земли в Лангедоке. Да что я говорю? Я еще не собираюсь играть в кости в садике.
— Ммм, не работать, не отдыхать, — Иероним выдул щеку, — тогда что же ты собираешься делать?
Ихмет вытер ладони поданной доулосом салфеткой, открыл банковское письмо, глянул на сумму и просопел через нос:
— Заниматься счастьем на продажу.
Г
РОДСТВО ПО ОТЦУ
Едва переступив порог дома и увидав заговорщически улыбающегося Перте, пан Бербелек утратил остатки надежд на спокойный вечер и возврат к сонной бездеятельности.
— Что там снова? — буркнул он, морща брови.
— Они наверху, я устроил их в комнаты для гостей. — Схватив брошенный ему плащ, Порте большим пальцем указал на верхний этаж.
— О, Шеол! Кому?
Старик криво оскалился, после чего, с преувеличенным поклоном подал пану Бербелеку письмо.
Бресла, 1194-1-12
Мой дорогой Иероним!
Они тоже твои дети, хотя, возможно, и не ты уже их отец. Помнишь ли ты собственное детство. Я рассчитываю на то, что так.
Тебя они не узнают, так что будь деликатным. Абель оставил здесь всех приятелей, которые у него когда-либо были, большую часть мечтаний; Алитея этой зимой сменила Форму, пройдет несколько лет, пока она не достигнет энтелехии, уже не ребенок, еще не женщина — так что будь деликатен.
Должна ли я извиняться? Извиняюсь. Я не хотела, не желаю сбрасывать этого на тебя, ты был последним в моем списке. В конце концов, пришлось выбирать между тобой и дядей Блоте. Или я плохо выбрала?
Должна ли я давать тебе присягу говорить правду? Ты знал меня; теперь же держишь в руках лишь бумагу. Я прекрасно знаю, какая правда погрузится в керос, тем не менее, напишу: все обвинения, которые ты услышишь, фальшивые. Я не участвовала в заговоре, не выкрадывала завещания урграфа, не знала про его болезнь.
Быть может Яхве еще позволит нам когда-нибудь встретиться. Быть может, я выживу. Сейчас же я сбегаю в огонь божественных антосов; вполне возможно, что тогда ты с тобой не познакомишься, мы не познаем друг друга. Были такие моменты, даже целые дни, когда я любила тебя так, что болело сердце, и я теряла дыхание, на мне горела кожа. Это значит — тебе известно, кого я любила. Ведь знаешь, правда? Рассчитываю на то, что помнишь.
ε. Мария Лятек π. БербелекОох, писать-то она умела. Иероним трижды перечитал письмо. Наверняка, она работала над ним целый день, всегда любила все доводить до совершенства. Во всяком случае, тогда, когда ее знал. Двадцать лет? Да, это уже двадцать лет. Собственно, следовало ожидать, что Мария так закончит: убегая темной ночью от правосудия, жертва собственной интриги, до конца в собственных глазах невиновная, со всей прелестью и лиричным текстом на устах отбрасывая из собственной жизни лишнее бремя, уверенная будто мир ей поможет. Из всего, что она могла о нем теперь знать, Иероним мог быть каким-то какоморфом[2]-психопатом, разносящим по людям гной Чернокнижника. И, тем не менее, она выслала к нему детей.
Пан Бербелек поднялся на этаж. Их голоса услыхал уже в коридоре. Алитея смеялась. Он остановился за дверью гостевой комнаты. Она смеялась, а Абель что-то говорил на фоне, слишком тихо, чтобы понять, но, кажется, по-вистульски. На лестнице появилась Тереза; пан Бербелек отослал ее жестом. Та на него странно посмотрела. Подслушивал ли он собственных детей? Да, именно это он и делал. Ждал, пока не скажут чего-нибудь о нем: отец то, отец другое. Только нет, ничего. Немногочисленные слова, которые различал, касались города, Воденбург явно не соответствовал их представлениям о столице Неургии. Алитея уже не смеялась. Иероним верхом ладони поглаживал крашенное дерево двери. Нужно ли постучать? Он прижал палец к шейной артерии. Успокой дыхание, успокой сердце — собственно, чему тут беспокоиться? Раз, два, три, четыре.
Вошел. Дети были все еще в дорожной одежде; парень стоял возле окна, глядя на город под темным небом и в закатном солнце; девочка полулежала на кровати, перелистывая какую-то книжку. Они оглянулись на него, и только лишь в этом одновременном движении пан Бербелек заметил их семейную схожесть — одна кровь, одна морфа: эти глубоко посаженные очень черные глаза и высокие скулы, твердый подбородок…
Дети глядели безразлично, во взглядах лишь легкое любопытство.
— Иероним Бербелек, — представился он.
Те поняли не сразу.
— Это вы… это ты? — Абель подошел к нему. Ему еще не исполнилось пятнадцати лет, но уже был выше Иеронима. — Это вы. — Парень протянул руку. — Я — Абель.
— Так. — Пан Бербелек внутренне собрался, энергично схватил поданную ладонь, но рукопожатие сына оказалось сильнее. — Знаю.
После чего они попали во власть Молчания. Иероним хотел открыть рот, но форма была сильнее; ему было ясно, что Абель тоже бессильно дергается. Парень приглаживал волосы, поправлял манжету, потирал щеку. Пан Бербелек, во всяком случае, движения рук контролировал. Он оглянулся на Алитею. Та отложила книжку, но с кровати не встала, приглядываясь к ним двоим с серьезным выражением на лице.
Пан Бербелек отодвинул стул от секретера. Усевшись, он склонился вперед, опирая локти на колени и сплетая пальцы. Сейчас он находился на одном уровне с Алитеей. Тут до них дошло, что глядят себе прямо в глаза; тем более невозможно теперь было отвернуться, опустить взгляд. Девочка смешалась, румянец выполз на щеки, шею, декольте; она прикусила нижнюю губу. Мгмм, может, это выход…?
Пан Бербелек сильно прикусил себе язык. Заболело, как следует. Он даже замигал, чтобы отогнать слезы.
По мине дочки он прочитал, что она приняла это как признак огромного волнения. Тут уже он не выдержал и расхохотался.
Пара родичей обменялась непонимающими взглядами. Абель на всякий случай отступил к окну — лишь бы подальше от отца.
— Н-да, — просопел Иероним, пытаясь сдержать гомерический смех, — именно так я себе нашу встречу и представлял.
Ясное дело, что он никак ее не представлял. Не то, чтобы не желал себе этой встречи; вот это уже означало бы, что о себе — и о них — думал. Тем временем, Абель с Алитеей абсолютно не принадлежали его жизни, детей он потерял вместе со старой морфой, с Марией и тамошней карьерой, тамошними мечтами, тамошним прошлым. Здесь, в Воденбурге, он был бездетным холостяком.