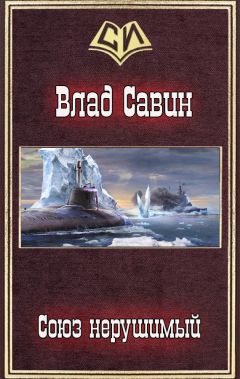Стивен Эриксон - Врата Мертвого Дома
Три дня прошло с битвы в Санимонской долине и кровавой отсрочки, которую даровали малазанцам хундрилы. Нежданные союзники завершили бой тем, что погнали остатки племён-соперников по степи в часы заката, прежде чем рассеяться и вернуться в собственные земли. Во всяком случае, с тех пор их не видели.
Поражение привело Корболо Дома в ярость — это было совершенно очевидно, — нападения теперь происходили непрерывно, бесконечная битва уже более сорока часов — и никаких признаков того, что это скоро закончится.
Враги снова и снова накатывались на потрёпанную Собачью цепь — с флангов, с тыла, иногда с двух или трёх направлений одновременно. То, чего не могли достигнуть клинки, копья и стрелы, довершала усталость. Солдаты просто падали на землю — доспехи изодраны в клочья, десятки мелких ранений медленно подтачивали последние силы. Сердца останавливались, сосуды лопались под кожей, так что возникали чёрные синяки, будто армию поразила неведомая болезнь.
То, что увидел Дукер, даже не ужасало, эти картины просто не поддавались осознанию.
Историк добрался до позиций пехоты одновременно с остальными группами. Солдаты выстроили круговую оборону; ощетинившееся клинками кольцо, которое не смогла бы одолеть никакая — даже самая вышколенная — кавалерия.
Внутри кольца один из мечников начал бить мечом по щиту, заревел, усиливая голосом ритм ударов. Кольцо шевельнулось: поворот, все солдаты шагнули одновременно вперёд и в сторону, поворот, весь отряд сместился, поворот, медленно двинулся туда, где оставшиеся полки ещё держали линию обороны здесь, на западном фланге цепи.
Дукер шагал с ними, во внешних рядах кольца, добивал всех вражеских солдат, которых затоптал строй. Рядом гарцевали пять всадников Вороньего клана. Только они выжили после контратаки, и даже из них двое уже никогда не смогут пойти в бой.
Через несколько минут кольцо достигло линии обороны, раскрылось и влилось в ряды своих. Виканцы пришпорили взмыленных коней и поскакали на юг. Дукер начал проталкиваться через ряды солдат, пока не вышел на открытое место. Он опустил дрожащие руки, сплюнул кровь на землю, затем медленно поднял голову.
Мимо него шагали беженцы. В клубах пыли сотни лиц повернулись в сторону Дукера, все смотрели на тонкий кордон пехоты позади — всё, что отделяло малазанцев от кровавой расправы, — как он выгибается, отступает, становится всё тоньше с каждой минутой. Лица оставались безучастными, беженцы уже преодолели ту черту, за которой не оставалось ни мыслей, ни эмоций. Они сделались просто частью прилива, который не знает отливов, где отстать значит погибнуть, поэтому они ковыляли вперёд, вцепившись в последнее и самое драгоценное — детей.
К Дукеру подошли две фигуры, они двигались вдоль потока беженцев от передовых позиций. Историк мучительно всматривался в них, чувствовал, что должен узнать, но все лица теперь стали лицами незнакомцев.
— Историк!
Хриплый голос вывел его из прострации. Разбитые губы заныли, когда Дукер сказал:
— Капитан Сон.
В руки историку ткнули оплетённый кувшин. Он вложил короткий меч в ножны и принял сосуд. От холодной воды заныли зубы, но Дукер не обратил на это внимания и продолжал пить.
— Мы вышли на равнину Гэлиин, — сообщил Сон.
Рядом с ним стояла безымянная воительница Дукера. Она еле держалась на ногах, историк заметил глубокую колотую рану у неё на левом плече, там, где остриё сулицы прошло поверх щита. В зияющей ране поблёскивали оторванные звенья кольчуги.
Их глаза встретились. Дукер не увидел ничего живого в этих некогда прекрасных светло-серых глазах, но тревогу вызвало не то, что историк увидел, а то, что это его ничуть не потрясло, пугающее отсутствие всякого чувства — даже отчаяния.
— Колтейн тебя вызывает, — сказал Сон.
— Он что же, ещё живой?
— Так точно.
— Насколько я понимаю, ему нужно это. — Дукер вытащил из-за пазухи маленькую стеклянную бутылочку на серебряной цепочке. — Возьми…
— Да нет же, — сказал Сон и нахмурился. — Ему нужен ты, историк. Мы столкнулись с племенем из Санит-одана — они пока только наблюдают…
— Похоже, восстание в этих краях не столь уж и популярно, — пробормотал Дукер.
Звуки битвы на флангах стали чуть тише. Краткая пауза, несколько ударов сердца, чтобы передохнуть, залатать доспехи, перевязать раны.
Капитан взмахнул рукой, и они пошли вдоль колонны беженцев.
— Какое племя? — спросил через некоторое время историк. — И ещё более важный вопрос — я-то здесь при чём?
— Кулак принял решение, — сказал Сон.
Что-то в этих словах заставило Дукера поёжиться. Он хотел было расспросить капитана, но потом передумал. Подробности решения принадлежат Колтейну. Этот человек ведёт вперёд армию, которая отказывается умирать. Мы за тридцать часов не отдали врагам ни одной жизни беженца. Пять тысяч солдат… плюют в лицо всем богам…
— Что ты знаешь о племенах, которые живут так близко от города? — спросил на ходу Сон.
— К Арэну они любви не испытывают, — ответил Дукер.
— Под властью Империи им хуже?
Историк хмыкнул, сообразив, к чему клонит капитан.
— Нет, лучше. Малазанская империя понимает, что такое окраины, знает нужды жителей степи — в конце концов, огромные территории Империи по-прежнему населены кочевниками, — и дань с них никогда не требуют заоблачную. Более того, за проход через племенные земли Империя платит регулярно и щедро. Колтейн это должен хорошо знать, капитан.
— Думаю, он знает — это меня нужно убеждать.
Дукер покосился на поток беженцев слева, пробежал глазами по рядам лиц — молодых и старых — под вечным маревом пыли. Несмотря на усталость, мысли Дукера помчались вперёд, и он почувствовал, что стоит на рубеже, за которым — это уже было ясно видно — лежит последняя, отчаянная игра Колтейна.
Кулак принял решение.
И его офицеры упираются, отшатываются от неуверенности. Неужели Колтейна поразило отчаяние? Или он просто слишком хорошо всё понимает?
Пять тысяч солдат…
— Что мне сказать тебе, Сон? — спросил Дукер.
— Что другого выбора нет.
— Это ты сам можешь сказать.
— Но не смею. — Капитан поморщился, его изрезанное шрамами лицо скривилось, единственный глаз потонул в сетке морщинок. — Это всё дети, понимаешь? Всё, что у них осталось, — последнее, что у них осталось, Дукер…
Историк коротко кивнул, показывая, что объяснять ничего не надо — и уже это была милость. Он видел эти лица, почти начал их изучать — будто искал в них юность, свободу, невинность — но на деле искал и нашёл другое. Простое, неизменное и от того только более священное.