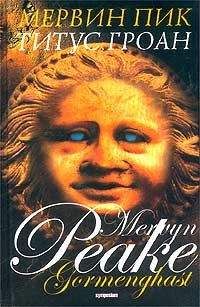Мервин Пик - Титус Гроан
Над башнями, пронзая пробуждающийся, кроваво оперенный воздух, летело на север, словно отодранное от орлиного тела крыло, одинокое облако.
Над головой Пятидесятника кедры, подобные колоссальным рисункам углем, начали вдруг проявлять свое устройство, наслоения плоской зелени возносились ярус за ярусом, и встающее солнце острило их очертания.
Пятидесятник повернулся к замку спиной и пошел между кедрами, оставляя на мерцающих расплывах росы за собою черные отпечатки чуть свернутых внутрь ступней. Он шел и, казалось, медленно утопал в земле. Каждый шаг его был отдельным, на пробу производимым движением. То было подобие спуска, испытующего погружения, как если б он знал — самое важное для него, то, что он понимает доподлинно, о чем печется, лежит под ним, под его медленно переступающими ногами. Земля — это была земля.
Даже в кожаной своей сутане Пятидесятник не производил внушительного впечатления, и в поступи его, пусть и исполненной значительности, присутствовало тем не менее, нечто смешное. Ноги Пятидесятника были, по сравнению с телом, коротковаты, но голова, старая, складчатая, отличалась благородством очертаний и нечто величавое проступало в ее ширококостном, морщинистом челе, в прямой линии носа.
О цветах он знал больше любого ботаника или живописца, его волновал в них скорее рост, чем конечный расцвет — органический порыв, достигавший высшего разрешения более в золоте и лазури, нежели в красках, формах или еще в чем-то осязаемом.
Как мать, чья любовь к ребенку не убывает оттого, что лицо его изуродовано, так и Пятидесятник относился к цветам. Всему, что растет, он нес свое знание и любовь, но целиком отдавал себя только яблоням.
На северном склоне невысокого холма, неторопливо сходившего к ручью, стоял сад, и каждое дерево в нем было для Пятидесятника отдельной личностью.
Августовскими днями Фуксия, случалось, видела его из своего чердачного окна, — иногда он стоял на короткой стремянке, иногда, если ветки были достаточно низки, в траве; долгое тело его и недолгие ножки укорачивались перспективой, кожаный капюшон закрывал лицо; и сколь ни крохотным представлялся Пятидесятник с ее огромной выси, девочка видела, что он протирает до зеркального блеска яблоки, свисающие с ветвей, склоняется, чтобы на них подышать и после трет, трет шелковой тряпочкой, покамест к ней, наверх, не долетит багровая вспышка, различимая даже со страшных высот ее мглистого чердака.
Потом он отступал от дерева с налощенными им плодами и медленно обходил его кругом, наслаждаясь видом розно сгруппированных яблок и изгибами несущего их ствола.
Пятидесятник провел несколько времени в обнесенном стеной саду, срезая цветы для Крещальной Залы. Он переходил из одной части сада в другую, пока не понял, какой будет главная краска этого дня, и зримо не представил заполняющие залу вазы.
Солнце уже расточило туман и поднималось в небо сияющим блюдом, словно влекомое невидимой нитью. В Крещальной же Зале было еще темновато, когда Пятидесятник вошел в нее через эркерное окно — темной фигурой неверных пропорций с тускло горящими цветами в руках.
Замок между тем пробуждался или был пробуждаем. Лорд Сепулькгравий завтракал в трапезной с Саурдустом. Госпожа Шлакк толкала и тыкала груду одеял, под которой свернулась во мраке Фуксия. Свелтер, лежа в постели, допивал принесенный одним из поварят стакан вина, он еще не вполне проснулся, по колоссальной туше его перекатывались там и сям жутковатые складки. Флэй, бормоча себе что-то под нос, прохаживался взад-вперед по бесконечному серому коридору, сопровождая каждый свой шаг мерным, как тиканье часов, кряком коленных суставов. Ротткодд обмахивал уже третье изваяние, на ходу поднимая с пола облачка пыли; а доктор Прюнскваллор напевал, принимая утреннюю ванну. По стенам ванной комнаты висели начертанные на длинных свитках красочные анатомические изображения. Даже в ванне Доктор не расстался с очками и, скашиваясь в поисках оброненного куска ароматного мыла, он, словно к милой возлюбленной, обращался с песней к косой мышце своего живота.
Стирпайк гляделся в зеркало, изучая свои вялые усики, а Кида смотрела из комнаты Северного крыла, как солнечный свет движется по Извитому Лесу.
Лорд Титус Гроан крепко спит, не ведая, что занимающийся день предвещает его крещение. Головка младенца скатилась на сторону, личико почти целиком скрыто подушкой, крохотный кулачок глубоко улез в рот. На нем шелковая ночная сорочка, желтая с синими звездами; свет, проникая под полуопущенные шторы, крадется по его лицу.
Утро шло своим чередом. Челядь суетливо сновала по замку. Нянюшка от всех волнений почти лишилась рассудка и без молчаливой помощи Киды вряд ли справилась бы со множеством дел.
Следовало отгладить крещальную рубашку, следовало извлечь из железного сундука в оружейной крещальные кольца и маленькую, усыпанную самоцветными камнями корону, а ключ от сундука хранится у Шраттла, а Шраттл глух, как пень.
Купание и одевание Титуса требовали особого тщания, время же, при таком обилии дел, бежало слишком быстро для нянюшки Шлакк, она и опомниться не успела, как уж пробило два.
В конце концов, Кида нашла Шраттла и, изобретательно жестикулируя, ухитрилась втолковать ему, что на закате дня предстоит крещение младенца, что для этого необходима корона и что корону вернут, едва закончится церемония, — Кида управилась и с прочими трудностями, от которых нянюшка Шлакк только заламывала руки да трясла в отчаянии головой.
Послеполуденные часы были великолепны как никогда. Огромные кедры величаво стыли в спокойном воздухе. Подстриженные лужайки отливали тусклым изумрудным стеклом. Изваяния на стенах, похищаемые ночью и нерешительно возвращаемые рассветом, вольно и ярко светились ныне каждой своей точеной подробностью.
Крещальная Зала дышала прохладой, чистотой, безмятежностью. Просторность и благородство ее ожидали явления наших персонажей. Цветы в вазах отзывали небывалым изяществом. В качестве главной ноты Пятидесятник выбрал сиреневый цвет, но здесь и там белый цветок тихо переговаривался с белым цветком над зеленым простором ковра, и одна золотистая орхидея окликала другую.
Близился третий час, и во множестве комнат и зал Горменгаста шла великая суета, однако эта прохладная зала ждала в мирном молчании. Только и было в ней жизни, что в зевах цветов.
Дверь вдруг растворилась, вошел Флэй. Он был в своем обычном, длинном, поеденном молью черном костюме, но и этот костюм нес сегодня следы попыток избавиться от пятен что покрупнее и остричь, там, где они пуще всего размахрились, края рукавов и штанин, придав им примерную прямизну. Все эти усовершенствования увенчались тяжелой медной цепью, надетой Флэем на шею. В одной руке он держал на подносе чашу с водой. Безразличное благородство залы обратило Флэя, по контрасту, в полное пугало. Он этого не сознавал. Он помог лорду Сепулькгравию одеться, и пока господин его, завершив туалет, стоял, полируя ногти, перед окном своей спальни, Флэй поспешил принести сюда крестильную чашу. До начала собственно церемонии единственная обязанность Флэя как раз и состояла в том, чтобы наполнить чашу водой и утвердить ее на столе, в центре Прохладной Залы. Непочтительно плюхнув чашу в середину стола, Флэй поскреб в затылке и глубоко засунул руки в карманы штанов. Давненько не случалось ему навещать Прохладную Залу. Да и не очень она ему была интересна. По его разумению, она и вовсе-то к Горменгасту не относилась. В знак пренебрежения он выпятил подбородок, так резко, словно тот был деталью какой-то машины, и стал прохаживаться по зале, неприязненно озирая цветы — вот тут-то за дверью и послышался голос — низкий, убийственно вкрадчивый.
— Тпру! осади, осади, тпру! да смотрите под ноги, мои крысиные глазки! Прочь с дороги. С дороги или я вас на филеи пущу! Стоять! Стоять, я сказал! Тело Господне, почему я должен возиться с этими олухами!
Дверной шишак повернулся, дверь медленно отворилась, и в проеме ее стала понемногу возникать физическая противоположность Флэя. Прошло, показалось Флэю, немалое время, пока тугая ткань не растянулась по огромной дуге и над нею не возникла, наконец, обрамленная дверным косяком голова, а в ней глаза, впившиеся в господина Флэя.
Господин Флэй одеревенел, — если вообще может нечто и без того уж не менее деревянное, чем тиковый сук, одеревенеть еще пуще, — пригнул до самых ключиц голову и приподнял, словно стервятник, плечи. Руки его, совершенно прямые, уходили в карманы штанов, к стиснутым кулакам.
Свелтер, увидев, кто перед ним, также замер и на лице его там и сям зазыблилась плоть — эти волны, повинуясь единому импульсу, вливались в океаны мягких щек, оставляя меж ними пустоту, зияющую расщелину, точно из дыни вырезали и вынули ломоть. Зрелище получилось страшное. Как будто Природа утратила над этим лицом всякую власть. Как будто представление об улыбке, как о проявлении радости, изначально являлось ошибочным — и то сказать, довольно было взглянуть на физиономию Свелтера, чтобы сама мысль о радости представилась оскорбительной.