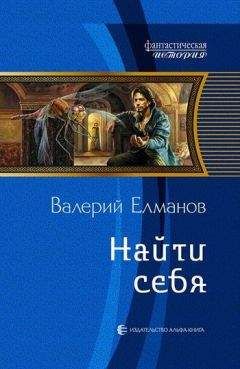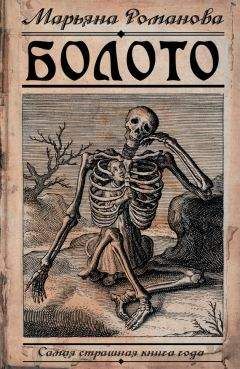Найти себя - Елманов Валерий Иванович
Это я к примеру.
Разумеется, возможны варианты, но в тех рамках, что я указал.
Думаю, что Василий Оладьин тоже сразу догадался об истинной причине такого необычного ходатайства. Во всяком случае, виду он не подал, лишь предложил составить бумагу, дабы не возникло подозрение, будто он, Оладьин, отпустил татя за мзду.
Голицын не возражал, и спустя час бумага, где кратко излагалась суть событий, была составлена. Кстати, на сей раз изложенное – дьяк зачитал ее вслух, а потому содержимое не осталось для меня загадкой,– практически ничем не отличалось от произошедшего в действительности. Однако после того, как бумага со стола была убрана, дьяк грустно заметил:
– Стало быть, коваль неповинен. Стало быть, на сыне твоем вина. Выходит, надобно его сюды приволочь да покарать, чтоб другим неповадно было.
– То я сам,– отмахнулся Голицын.
– Ан нет, боярин,– возразил дьяк.– Сам, по-отечески, это одно. На то твоя вольная воля, хошь карай, а хошь милуй. Мое ж дело государево, подневольное. Мне по закону все надобно, вот и выходит...
Далее речь Оладьина плавно перетекла на тяжкую жизнь, обремененную нищенским жалованьем, при котором невмочь даже скопить приданое для родной дочери. Конечно, ради Масленицы можно закрыть глаза и на эдакое беспутное поведение недоросля, но уж больно оно как-то не того. Мало ли кто проведает, а государь к потатчикам татей крут, и коль дознается, то Оладьину не сносить головы.
Голицын покряхтел, попытался решить дело полюбовно, но затем выразил свое согласие с намеком Оладьина.
– Тута сынок мой беспутный близ подворья кошель сыскал,– с тяжким вздохом заметил он.– Ничейный он, а потому прими да, ежели володелец сыщется, ему и отдай.– И бухнул на стол приятно позвякивающий мешочек.
– Находку лучшей всего прямо под божницу класть,– порекомендовал дьяк, внимательно разглядывая кошель, но даже не коснувшись его руками.
Голицын с недовольным видом взял мешочек и побрел к дальнему, невидимому мне сквозь щель углу.
– Запамятовал я чтой-то: там сколь всего? – деловито осведомился дьяк, когда боярин вернулся.
– Дак десяток рублев,– пояснил Голицын.
– Сдается мне, что поначалу куда больше было,– возразил Оладьин.– Мыслю, не мене трех десятков. Твой сынок, случаем, не запустил туда длань допреж того, яко тебе отдати?
– Побойся бога! – вытаращил глаза Голицын.– Нешто такое богатство кто уронит?!
Новый торг, который начался, закончился нейтрально. В конечном счете выяснилось, что в мешочке и впрямь лежало не один, а два десятка рублей. Недостающие боярин поклялся к вечеру прислать, после чего облегченно осведомился:
– Стало быть, и купчишку к вечеру выпустишь?
Дьяк было согласно кивнул, но тут же поправился. Не иначе как вспомнил про мои часы и прикинул, что с противной стороны еще не успел поживиться, пусть и не бог весть чем. А потому после кивка последовал противоречащий ему ответ:
– Не ранее завтрашнего полудня.
Так-так. Я призадумался. Мне-то в такой ситуации что делать? Ну выпустят меня, а сразу за воротами возьмут в оборот люди боярина Голицына, которых наверняка будет не менее десятка. Да и не с пустыми руками придут они. Как минимум засапожник будет у каждого, ну и прочее по мелочи – кистенек и другие инструменты из этой серии.
Тут уж и к гадалке ходить не надо, чтоб спрогнозировать – отбиться навряд ли получится. Разве что через высоченные заборы, но успею ли сигануть – это во-первых, а во-вторых, не выйдет ли от этого только хуже. Не любят здешние хозяева таких вот шустрых гостей, ой не любят. Вначале собак спустят, а местные кобели как на подбор – любой с волком на равных может драться, а потом попросту выкинут обратно на улицу, где меня будет терпеливо дожидаться дворня боярина Голицына. Словом, еще хуже.
Так ничего и не придумав, я на следующий день был мрачнее тучи, и, когда меня спозаранку вызвал к себе Оладьин, вышел я к нему хмурым и злым, аки цепной пес, у которого третий день подряд некий неизвестный самым подлым образом крадет из-под носа заботливо заныканную сахарную косточку.
С Алехой я говорил в полный голос, чтобы дьяк не подумал, будто я и впрямь чего-то пытаюсь от него утаить, и мой разговор с ним Оладьин слышал практически целиком. Удалось перекинуться лишь парой фраз насчет Квентина, которые настроения мне не прибавили. После того дьяк вызвал двух дюжих молодцев, оценивающе поглядел на плутоватое лицо Алехи, добавил к ним третьего и отправил их за моими часиками, а меня вновь в камеру для средневековых ВИП-персон.
Через пару часов стрельцы вернулись и принесли аккуратно завернутый в тряпицу «атлантик», так что я спустя еще минут пятнадцать мог лично лицезреть, как Оладьин, вновь затворившись в той самой комнате, разворачивает изделие швейцарского умельца Вильгельма Телля и, недоуменно покачивая головой, внимательно его разглядывает. По-моему, он даже пытался их обнюхать.
Впрочем, меня, как и в случае с купцом Патрикеем, заботило лишь одно – чтоб он не стал их пробовать на зуб, все остальное меня не интересовало.
А тут, согласно докладу дежурного стрельца, заявился и дворский от Голицына. Вопрос был один: «Когда?», после чего мне стало окончательно ясно, что моя свобода, во-первых, будет весьма кратковременной, а во-вторых, добром она навряд ли закончится.
Дьяк в ответ на вопрос заявил дворскому так:
– Передай боярину, что дьяк Оладьин словцо завсегда держит. А что заминка стряслась, в том его вины нет. Сказано – опосля обедни, стало быть, опосля обедни.
После этого он еще долго любовался иноземной диковиной, пытался, беззвучно шевеля губами, прочесть загадочные мелкие буквицы, а потом, вызвав стрельца, повелел привести к нему Федота Макальпина.
Когда я зашел к Оладьину, как раз зазвонили колокола, поэтому я твердо решил, что сегодня покидать тюрьму мне не с руки. Нары мягкие, хоть и деревянные, кормят сытно, печка, пусть она от меня и на отдалении, но все равно тепло от нее до меня долетает – чем не жизнь?
Дьяк встретил меня радостно, словно будущего зятя.
– Вота, бумагу отписываю,– бодро сообщил он мне, показывая на до половины исписанный желтоватый листок.– Потому, коль слово дадено, я его завсегда держу.– И тут же вновь углубился в свой тяжкий труд.– Присыпав чернила песочком – как видно, работа завершена,– он ласково обратился ко мне: – А чего стоишь да мнешься? Ступай себе.
– А часы? – удивленно возразил я.
– Дак ведь ты ими сам меня одарил,– удивился Оладьин.– Ты меня – часами, а я тебя – бумагой. Али воля часов не стоит?
– Уговор другой был,– покачал головой я.
– Ты чтой-то забылся, милок. Гляди, а то и поменять все недолго,– озлился дьяк.– Бумагу порвать – пустяшное дело. Да не просто порвать, но взамен иную отписать, по коей тебе куда как хужее придется.
– А зачем они тебе? – осведомился я, будучи уже готов к подобному раскладу событий.– Ты и до царя их донести не успеешь, как они остановятся. Хотя нет, они уже стоят. Их же заводить надо, а для завода ключик нужен. У тебя же его нет. Да ты сам послушай, стоят ведь?
Улыбка мгновенно спала с лица Оладьина, некоторое время он, попеременно прижимая часы то к одному уху, то к другому, старательно прислушивался, затем после минутного раздумья вновь вернул лицу добродушное выражение и сознался:
– И впрямь запамятовал, что оную штуку заводить надобно. А где, сказываешь, ключик?
Ага! Чичас я! Разбежался. Извини, старина, но забыл блюдечко с голубой каемочкой, а без него подавать тебе столь красивую вещицу стыдно. Я и отвечать-то не удосужился. А зачем? У меня вообще на текущий момент противоположная программа – поспать в купеческом коллективе.
Красноречиво хмыкнув, я вопросительно уставился на Оладьина – будем отдавать или как?
– Никак твой холоп забыл о ключике? – надменно вскинул свою бороденку дьяк.– Так мы ему память-то мигом освежим.
– Напрасен труд,– парировал я.– У меня про него тоже опаска имеется – вдруг утащит. Соблазны, говорят, и к святым приходят. Так что он и не ведает о ключике. А что до тайного места, так это только дурак все яйца в одну корзину складывает. Словом, в том месте хоть шарь, хоть не шарь – все равно не сыщут.