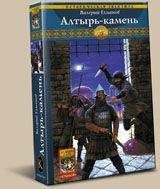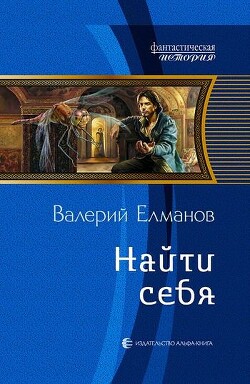Третьего не дано? - Елманов Валерий Иванович
Я ничего не выдумываю. Более того, о ряде подробностей, о которых я понятия не имел, рассказал мне Квентин.
Рассказал он и о преступлениях, за которые полагается эта мучительная казнь. Так вот, сам Дуглас подпадает под нее на все сто процентов, поскольку это английское варварство — на сей раз пишу без кавычек — применялось в том числе и по отношению к людям, посмевшим оскорбить священную персону монарха.
Вот так вот.
— И вообще, пока ты жив, всегда есть шанс, — подвел я итог. — А если тебя казнят, то…
Кажется, согласился. Во всяком случае, больше попыток повернуть назад он не делал. Правда, иногда с тоской оборачивался и смотрел на снежную пелену, закрывавшую шапки кремлевских башен и церковные купола.
Не иначе как прощался.
Развеселить его никак не получалось, хотя за дело взялся сам Игнашка, принявшись балагурить и сыпать шуточками:
— Не тужи, милай, перемелется — все мука будет. Разбейся, кувшин, пролейся, вода, пропади, моя беда! Не вешай свою головушку на праву сторонушку!
Видя, что не помогает, а Квентин вообще от него отвернулся, Игнашка, не смущаясь, повернул коня и заехал к Дугласу с другого бока, вновь начав сыпать прибаутками.
— Жизнь — ад, — угрюмо выдал шотландец.
— А людишки сведущие сказывают: «Обживешься, так и в аду ничего. И там люди живут», — не растерялся балагур и уверенно посулил: — Вот погоди, погоди, час в добре пробудешь — все горе забудешь. И крута гора, да забывчива, и лиха беда, да сбывчива. — Затем, видя, что опять не помогает, перешел на более серьезный тон: — Как ни плохо, а перемочься надо, парень. Оно ведь всего горя не переплачешь. Даст бог, еще много его у тебя впереди, так ты слезы того, береги. Опять же не видав горя, не узнаешь и радости, а не вкусив горького, не узнаешь и сладкого.
— Москва, — тоскливо произнес Дуглас.
— А что Москва? — пожал плечами Игнашка. — Москва ни по ком не плачет, и разжалобить ее не помышляй. Ты радоваться должон, что живым оттуда ушел, а то ведь как бывает — хотел мужик с Москвы сапоги снесть, да рад с Москвы голову унесть. Вот ты ее унес, потому и переложи печаль на радость.
Но не действовало.
— А вот ты человек ученый, я тебе загадку загадаю, — принимался за очередную попытку Игнашка. — Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в безелюль-люль-люль, утешу я царя в Москве, короля в Литве, старца в келье, дитя в колыбели. Что такое?
Но Квентин молчал.
— Не ведаешь, — протянул Игнашка. — А она легко отгадывается. Это же звон с колокольни раздается. А вот еще. Летели три ворона, кричали в три голоса; один кричит: «Я Петр»; другой кричит: «Я Филипп»; третий кричит: «Я сам велик»… И это не ведаешь? Да это ж три поста. Хотя да, ты ж иной веры. Ну тогда вот: не лает, не кусает, а в дом не пускает…
— Собака, — хмуро буркнул шотландец, даже недослушав.
— Я ж сказываю, не лает и не кусает, — опешив, повторил Игнашка.
— А она дохлая, — уныло произнес Дуглас, после чего до самого вечера так и не выдавил из себя ни слова.
Перекусить на привале он тоже отказался. Сидел шотландец возле костерка задумчивый, погруженный в безысходную печаль и, казалось, вообще ничего не замечая вокруг себя.
Наверное, это пик апатии для поэта, когда он не обращает внимания на окружающую красоту. А ведь полюбоваться было чем.
С красками, правда, негусто — белая да черная, все-таки ночь. Но зато какие крупные звезды гроздьями высыпали на ночном небе — засмотришься.
Только вот ему на все это великолепие было наплевать, а когда я попытался обратить его внимание на эту красоту, лишь равнодушно хмыкнул и даже не поднял головы.
Изредка его губы беззвучно шевелились, но это были не стихи — имя. Чье — угадать несложно. И что тут скажешь, чем утешишь? Правдой?
Так ею только окончательно убью парня, и все, потому что и впрямь не было в голосе Ксении любви. Раскаяние в глупой шутке — да, жалость к несчастному — имелась, а вот самого главного для Квентина — увы.
Прав был ее брат — не люб он ей.
Нет уж, такую правду пусть ему говорит кто-нибудь другой. Даже для друзей есть предел, переходить который не рекомендуется, иначе недолго и по роже схлопотать.
И даже сдачи не дашь, ибо отоварен по заслугам.
Сказать что-то иное, более оптимистичное… Тоже не стоит. Поэты — народ чуткий. Сразу почувствует фальшь в моих словах. Нет уж, лучше помолчим вместе. Так оно спокойнее.
Молчание закончилось на следующий день, поутру. Стоило ему узнать, куда именно мы направляемся, и он тут же взбунтовался.
Как я понял, к царевичу Дмитрию Квентин не хотел все по той же простой причине — раз тот является врагом Бориса Федоровича, то ему, как потенциальному жениху царевны, не следует обращаться за помощью к врагу своего будущего тестя.
И вновь пришлось битый час убеждать его, что речь не идет о просьбе помочь добыть невесту. Совсем наоборот. Если нам удастся кое-что выяснить, то мы с ним станем спасителями династии Годуновых.
— А что до своей любви, то ты вообще о ней молчи, — посоветовал я напоследок. — Расклад у нас такой — ты посажен царем в тюрьму, а я, как твой друг, попытался помочь тебе бежать. И это все! — Но мне кое-что припомнилось, и я внес добавления: — Чтобы не возникало лишних вопросов, о том, кем ты приходишься королю Якову, тоже помалкивай. Я лучше сам, а то ты обязательно ляпнешь лишнее.
Квентин не ответил, уставившись в костер, словно и не слышал моих запретов.
— Понял ли, парень? — строго повторил я и тронул его за плечо.
Никакой реакции. Я попробовал потормошить поэнергичнее. Без толку. Словно в ступор впал. Ишь ты, что любовь, леший ее задери, с человеком творит. Хотя она, злодейка, еще и не такое может учинить, если ей волю дать.
И лишь спустя несколько секунд до меня дошло, что Квентин без сознания, а когда тронул его голову — чуть не обжегся.
На глаз определять температуру могут только опытные медсестры, но на сей раз даже я без всякого опыта мог с уверенностью сказать — не меньше тридцати восьми. Больше — сколько угодно. Вполне допускаю, что термометр вообще показал бы все сорок.
Словом, горел парень.
Можно сказать, сгорал на глазах.
Но не зря говорят, что влюбленным и пьяным сопутствует удача, которая отчего-то всегда благосклонна к дуракам. Судьба щедрой рукой подкинула Квентину великолепный шанс — всего в десятке верст от того места, где я обнаружил, что Дуглас болен, нам попалась крохотная — в два дома — деревенька.
Точнее, как заметил Дубец, это был починок, то есть зачаток деревеньки.
И вторая удача — стояла она не вот чтобы прямо у дороги, а в версте от нее, укрывшись в лесу. Навряд ли мы вообще разглядели бы неказистые строения, если бы не мой татарин, зоркий глаз которого мгновенно засек легкий голубоватый дымок, лениво поднимающийся к ясному чистому небу.
Хозяева домиков были бортниками, то есть пчеловодами, потому не выжигали себе места под новую пашню, а дома поставили прямо на большой поляне среди леса.
Вначале это был один домик, а потом, когда отец выделил после женитьбы старшего сына, по соседству незамедлительно вырос второй.
Пробыли мы там изрядно — аж две недели. А как иначе, когда Квентин, на мой взгляд, подхватил банальное воспаление легких.
Во всяком случае, в груди у него не просто свистело, шипело и клокотало — полное ощущение, что там завелся какой-то паровозик, готовый двинуться в путь, а пока пускающий пар в ожидании разрешения на выезд.
У меня, правда, было кое-что — спасибо Марье Петровне.
Но все эти снадобья входили в разряд средств, предназначенных по большей части для поддержания организма в тонусе, не более. Что-то вроде поливитаминов, как я их окрестил.