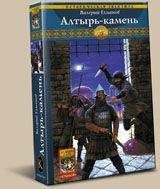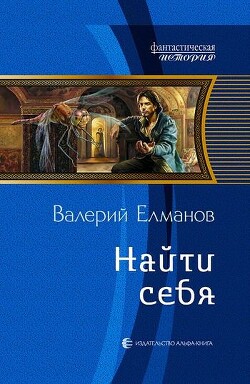Третьего не дано? - Елманов Валерий Иванович
Не хотел я к нему прибегать, но…
— Сейчас я вовсе не о нем пекусь, — пояснил я. — С Квентином после случившегося мне и разговаривать неохота. Сам бы уши дураку надрал! Но тут речь об ином, государь. Слухи в народе ползут — гаденькие такие, гнусные. Дмитрий ведь не войском силен — за него молва стоит. Поверь, если с ней ничего не делать, то опасность для твоего трона уже через полгода вырастет настолько, что страшно представить…
— А ты и наперед там зрел? — переспросил он, побледнев.
Я в ответ только молча кивнул, но, видя, насколько велико волнение Годунова, постарался смягчить рассказ, вовремя вспомнив дядю Костю:
— Помнишь, как батюшка мой, когда тебе предсказывал, про туман говорил? Это значит, что все можно исправить. Вот и у меня так же. Но пока что в тумане этом видел я самозванца подъезжающим к Москве. И войско большое, и свита изрядная, да и сам он весь нарядный, ровно не воевать едет, а победителем в столицу вступает.
— А… я? А… Федя? Сын-то мой где?! — почти выкрикнул он.
— Успокойся, государь. — И я, торопливо метнувшись к столу, подхватил его кубок с лекарством, но царь досадливо отвел мою протянутую руку в сторону и вновь настойчиво переспросил:
— Так пошто молчишь? Вовсе там худо?
— У того, кому дано заглядывать туда, никто не спрашивает, что ему показать. Потому саму Москву мне повидать не довелось, только церковные купола да башни Кремля где-то вдали, — слукавил я и даже поклялся для убедительности: — Вот те крест, царь-батюшка. Могу и на икону перекреститься, если хочешь. Правда, я не православный, но господь все видит…
— И без того верю, — отмахнулся он, наконец приняв кубок из моих рук. — Коль и тебе не верить, вовсе жить незачем. Един ты у меня остался. Прочих, кого ни возьми, — сплошь июды. Хотя нет, хуже, — поправился он. — Тот вроде раскаялся. И деньгу вернул, и повесился, а енти, — пренебрежительно махнул царь, — продадут и возрадуются. Ладно, быть по сему. Езжай. Яко Квентина своего половчей выкрасть, сам поразмысли.
В тот вечер я возвращался домой довольный. Основное сделано, так что теперь особо спешить некуда, а потому к предстоящим лекарским функциям надо отнестись весьма и весьма серьезно. Словом, я попросил свою ключницу поднапрячься изо всех сил.
Нет, не для излечения.
Как сказала сама Марья Петровна, только один человек на ее памяти, может быть, сумел бы совладать с черной немочью — та бабка, у которой она постигала науку колдовства и ворожбы.
То есть полностью вылечить падучую она не собиралась. Но вот сделать так, чтоб припадки стали гораздо легче, да и процесс восстановления больного после них пошел куда как интенсивнее, она могла.
Потому Марья Петровна целых два дня варила для меня различные отвары, ворча по привычке, что лучше бы обгодить до весны, иначе можно опростоволоситься, поскольку всего потребного у нее в запасе нет, а зимой «ни цветов, ни листов не бывает». Да и на торгу ныне не больно-то укупишь — опосля царских опал народец и думать забыл, чтоб сбирать целебные травки, ибо опасается.
Кроме того, мне пришлось зазубривать массу названий трав, которые присутствуют в том или ином отваре. А иначе никак. И впрямь, что я за лекарь, коль не знаю, из чего сварил то или иное зелье.
Это будет выглядеть по меньшей мере подозрительно.
Вот и пришлось день-деньской напролет зубрить про сердечную траву, богородичную, маточную, змеиную, солнечную, пытаться опознать горицвет, который, оказывается, очень схож с кукушкиным цветом, и старательно запоминать, что медвежье ухо, которое коровяк, далеко не то же самое, что медвежье ушко.
Особый инструктаж касался снотворных, которые надлежало дать больному после приступа. Оказывается, все они на ядовитых растениях, поэтому приготовленный в особой посуде отвар корней волчьего лыка надо давать очень осторожно — от силы пять капель, не больше, иначе…
План вызволения Квентина из острога тоже требовал тщательной разработки. С этой целью я даже попросил свидание с узником, пояснив Борису Федоровичу истинную цель — осмотр окрестностей близ тюрьмы и помещений в ней самой с целью детальной рекогносцировки предстоящего побега.
Видок Дугласа, к которому меня допустили, оставлял желать лучшего. Глаза потухшие, взгляд пустой, в никуда. Кроме того, изобилие ссадин и кровоподтеков.
Со сторожами я был суров, а с катами бушевал, не скрывая гнева, особенно когда выяснил, что паренек успел побывать под кнутом. То-то я гляжу — одежда у него клочьями свисает.
— Увечить — ни-ни, о том наказ нам даден, — простодушно возразил один из палачей, который потолще. — А вот чтоб вовсе к нему не притрагиваться, о том никто не сказывал.
Я ехидно осведомился, уж не с тайным ли злым умыслом они учинили подобное с иноземцем, дабы всему миру показать, сколь злобен и жесток русский государь.
Затем, поняв, что сарказмом тут никого не пройму, стал рвать и метать, не выбирая слов и выражений. Не зря в свое время я от скуки иногда смотрел некоторые фильмы, где красочно показывали колонии и тюрьмы.
Чернуха, конечно, зато теперь…
— Волки драные, менты позорные, козлы гунявые! — орал я. — То ж государь его острастки ради сюда сунул, а вы что сотворили?! Я вам самим за это пасть порву, рога пообломаю, ухи пооткусываю…
Вроде проняло и вдохновило. Но только вроде.
— Солому, что ли, поменять? — философски осведомился все тот же толстый кат у своего подручного.
— И все?! — обалдел я от вопиющего непонимания ситуации. — А подлечить, переодеть, покормить, наконец?! Вон у парня кости торчат!
— Дык оно, конешно, того, но ежели нечем, так тогда и никак, — беспомощно развел руками кат, но лукавинка в глазах явно противоречила простодушным словам.
С минуту я вдумывался в красноречивое пояснение, после чего до меня дошло — денег хотят. Все правильно, московская милиция, что уж тут поделаешь.
Пришлось слазить в кошель за серебром.
— А вот ежели того, то тут и мы расстараемся — чай, не без понятия, — оживился кат и мигнул одному из подручных, который проворно испарился в неизвестном направлении. — Нынче же пожрет от пуза, — заверил толстяк.
— То есть как это — только пожрет? А остальное?! — возмутился я.
— А хотишь, порты холодные [46] ему поменяем? — равнодушно предложил он замену одной услуги на другую. — Пущай голодный, но зато в чистом спать ляжет.
«Кажется, мало дал», — понял я.
Пришлось извлечь остальное, что только было в карманах. Горсть серебра не производила особого впечатления, но среди копеек-семечек затесался толстенький ефимок, а потому палач расплылся в улыбке и наконец-то целиком согласился со мной:
— Ан и впрямь, лучшее всего, чтоб и пожрал, и одежку сменил. Мазей вот никаких нет.
— И у меня пусто, — зло заявил я и в качестве наглядного подтверждения своих слов потряс пустым кошелем.
— Дак и я к тому, — сочувственно вздохнул он и покосился на мой перстень.
Ну уж дудки.
Во-первых, это подарок царя за Стражу Верных.
Во-вторых, цена его такая, что можно скупить с потрохами всех московских лекарей, чтобы они пользовали меня до скончания моих дней.
В-третьих… Впрочем, достаточно и перечисленного.
— А за взятки тут никого еще не карали? — полюбопытствовал я. — А то поспособствую. И поверь, милый, — я взял его под руку и отвел в сторонку, — ежели сей миг к нему не придет лекарь, который смажет везде, где можно, и тем, чем положено, то через час здесь одним катом будет меньше.
Кажется, мой лирический многообещающий тон пронял его суровую, но любвеобильную душу куда сильнее, чем мой первоначальный крик.
Во всяком случае, после его выразительного кивка второй подручный тоже испарился.
— И не вздумай надуть — проверю, — пообещал я перед уходом.
— Да что ж ты такой гневный, боярин? — пробасил толстяк. — Вона уже бежит к нему Мефодьюшка. Лучше бы заместо того, чтоб пугать… — Но тут же осекся, вспомнив, что в кошеле и впрямь пусто, а потому выжать из меня еще что-то навряд ли получится.