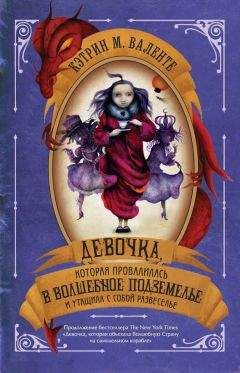Города монет и пряностей - Валенте Кэтрин М.
– Тебе не понравилась моя шутка? – Она рассмеялась. – С такой работой, как у меня, редко удаётся поболтать. Ты могла хотя бы изобразить смех. Или похихикать. Разве девушки в твоём мире разучились это делать?
– Я давно не практиковалась в хихиканье, – проворчала я.
– Как и я, дорогая. Наверное, это не очень хорошая шутка.
– Что мне сделать, чтобы пройти?
Боюсь, я была с ней резка. Наверное, ты вёл себя лучше.
Темница вздохнула.
– Надо слушать, а не говорить так много.
Сказка Плакальщицы
Я занимаюсь странным делом, хотя оно немногим чуднее моего прежнего занятия. Когда-то я была плакальщицей – у гарпий есть склонность к этой профессии: ни одно другое существо не может вопить так, как это делаем мы.
Я не предупредила? Ох! Не заглядывай под плащ.
Мы знаем, как стенать от горя, лучше любого из тех, у кого пять пальцев на ногах. Когда надо, мы живём с трупом и со скорбью неделями, пока она не обретёт форму и плоть, не станет весом с труп, и в гнилостных газах находим добродетель или порочность умершего. Распад не умеет лгать.
Мы прекращаем скорбеть не когда нам говорят, а когда завершается погребальная песнь: на это уходят дни или годы. Когда мы можем взять погребальную песнь за руку и пройти с ней по городской улице, показать лавку зеленщика, где умершая покупала морковку и репу, и лавку мясника, где резала мясо и втайне встречалась с любовником, и галерею, где однажды висел её портрет, – тогда мы понимаем, что песнь выросла, и всё закончилось. Она с грустью кивает и проходит сквозь все эти места к могиле, где мы визжим, поём и рвём на себе волосы, царапаем себе грудь и печально воем, впиваясь в землю.
Однажды в Ирсиле, где нищета и грусть и нет ничего, кроме ветеранов со сломанными мечами да бесполезными оралами, нам понадобилось пятнадцать лет, чтобы взрастить погребальную песнь по одному генералу. Мы ходили с ней по трущобам и порогам, где старые офицеры вещали в пустоту свои кровавые истории; они шагали за нами строем, чтобы услышать, как оплакивают старика.
Это необходимая работа. У меня хорошо получалось. Думаю, потому я и попала сюда.
Среди скорбящих гарпий ты не можешь считаться знатоком, если у тебя нет клюва удода. Мы можем вопить и причитать так, что у тебя уши распадутся на кровавые половинки от муки, рвущейся из наших глоток. Но погребальная песнь – это не только печаль. Даже в покрытой шрамами жизни старого генерала нашлось место приятным вещам: была женщина в одной деревне, напоминавшая его мать, и он на ней женился; мы не преминули об этом рассказать, ибо в погребальной песне нет места стыду. Ещё был момент перед тем, как он отправился в поход, когда женщина, похожая на его мать, показала ему младенцев-двойняшек, мальчика и девочку, и он не мог дышать от того, какие у них милые щёки, – мы спели и об этом.
Но тяжело петь о приятном ртом гарпии. Мы ведь созданы для того, чтобы рвать на части. Тяжело просто плакать…
Клюв следует добыть – не украсть: нужно спеть погребальную песнь удода, когда тот умрёт, и, если его птенцы сочтут песню достаточно хорошей, они отдадут клюв. Вот как удоды распределяют мировую скорбь.
Когда я отправилась на поиски клюва, мне было за тридцать. Довольно многие сомневались, что я когда-нибудь заслужу право его носить. Уверена, ты с изумлением думаешь про удодов – они же просто маленькие яркие и глупые порхающие птички. Как может клюв, похожий на грудную кость голубки, производить похоронные звуки, о которых говорю я? Но послушай: некогда жили великие удоды, коим нет равных в эти дни упадка. Их розово-оранжевые крылья были как у альбатросов, а клювы – словно трубы, и мы были ветром, который их обдувал.
Я отправилась в горы. Не стану досаждать тебе подробностями Подвига. Почти все Подвиги одинаковые: некто отправляется в путь, добивается желаемого и возвращается. Но, найдя огромную старую удодиху, умиравшую на гнезде, я упала на колени среди её птенцов с огненными головами, перьями с чёрными кончиками и белыми пятнышками, чтобы узнать о жизни птицы, которую мне предстоит оплакивать. Она повернула ко мне старую пушистую голову и рассказала вот что.
Сказка Удодихи
Моё яйцо было трудно разбить: желток оказался золотым и тягучим. Я открыла глаза посреди сияния. Моя мать пронзила грудь клювом и накормила меня своей кровью, которая имела вкус полёта. Она назвала меня Оранжевой-как-Солнце.
Прилив пришел – прилив ушел. Я ела червей и жуков.
Я пела очень громко: так же громко пел удод с чёрным и сильным хвостом. Я сделала гнездо из веток лещины, пуха и кусочков странного сладкого красного дерева, небрежно брошенного строителем плота. В тот год я снесла три яйца и ещё четыре – на следующий год. Я пронзила грудь клювом и накормила птенцов своей кровью, которая имела вкус полёта. Я назвала их Розовый-как-Жирный-Червяк, Рябой-как-Тень, Красный-как-Кровь-Матери… По-разному. Их было много, всех трудно вспомнить.
Ещё через год я снесла одно яйцо, а в прошлом году – пять. Так бывает.
Прилив приходит – прилив уходит.
Однажды меня преследовал ястреб. Он проделал дыру в моём черепе и ещё одну – в клюве. Я выклевала ему глаз.
Кот покалечил удода с чёрным хвостом, и последние мои яйца были от другого, с синим хохолком.
Теперь я старая, и у меня нет крови для новых птенцов.
Я прожила хорошую жизнь.
Сказка Плакальщицы
(продолжение)
Я держала в руках её старую усохшую голову, напоминавшую коричневое яблоко, и тринадцать её птенцов собрались вокруг: Розовый-как-Жирный-Червяк, Рябой-как-Тень, Красный-как-Кровь Матери… а также Синебрюхий-как-Сойка, Розовый-как-Обгоревший-Фермер, Мрачный-как-Голодный-Барсук и остальные. Я подняла голову и спела об алмазном яйце, о том, как трудно было его разбить, как мерцал желток в лучах утреннего солнца, и о вкусе материнской алой крови. Я спела о красоте чёрного хвоста, о гладких яйцах с младенчиками, о том, как текла кровь из груди Оранжевой-как-Солнце, и о той боли, которую она чувствовала, когда дети клевали её грудь. Я спела о ястребе, внушающем страх, о его грозных криках и великой битве, в которой хищник утратил драгоценный глаз. Я спела о коварном коте и потерянном супруге, о новой любви с синим хохолком. Я спела о всех яйцах, всей крови и о пустой груди, что поёт на исходе дней.
Я слетела с горы, держа в руках клюв Оранжевой-как-Солнце, и на нём была маленькая дырочка, оставшаяся после сражения с ястребом. Благодаря ей мне удаётся издавать самые нежные, надломленные и печальные ноты, на какие способен любой клюв. Я привязала его к лицу и начала заниматься своим ремеслом.
Через несколько лет после этого ко мне пришли женщины, плакавшие как удоды о своей подруге, чьё бездыханное тело они несли на похоронных носилках из носа корабля. У умершей были белые волосы, и она улыбалась. Я внимательно слушала, пока они рассказывали историю её жизни. Потом взяла тело в своё обычное место, спрятанное в забытом пустом краю у маленького озера, где меня никто не побеспокоил бы годы, которые точно понадобились бы, чтобы взрастить погребальную песнь этой женщины. Но её подруги мне хорошо заплатили, и я принялась за дело, превращая тускнеющий труп в историю. Он пах сладко, будто и не труп вовсе, а как розы и ладан, хотя тебе, наверное, смешно такое слышать. Я многое узнала, пока мёртвая медленно превращалась в ничто. И хотя её тела уже нет, по-прежнему создаю её погребальную песнь. Прежде чем оно рассыпалось в прах, я случайно заметила большие погребальные носилки на воде – к моему удивлению, на них лежал скелет с головой дряхлого старого лиса, чья шерсть когда-то была рыжей.
Сказка Танцовщицы, что спустилась в мир мёртвых
(продолжение)
– Я пробыла здесь так долго, так много лет, что другие гарпии забыли про меня.
Женщина раскрыла длинные складки своего плаща, и я увидела, что тело гарпии, покрытое коричневыми перьями, полностью вросло в землю. Теперь не осталось почти никакой разницы между перьями и листьями, её ног совсем не было видно. Она вырастала из грязи, как коренастое дерево.