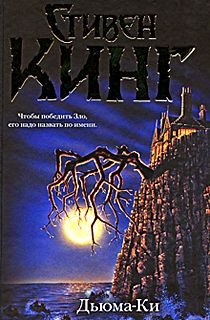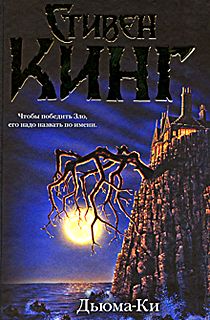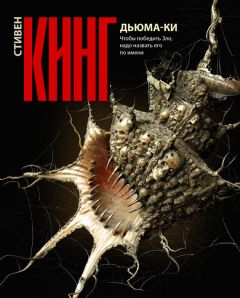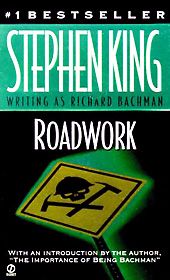Дьюма-Ки - Кинг Стивен
— Придёт день, мучачо, — Уайрман указал на корт, мимо которого мы проходили. Он замедлил шаг, так что я его догнал, — когда мы с тобой придём сюда. Я не буду ставить перед тобой сложных задач, только отбивай и подавай, не сходя с места, но мне так хочется помахать ракеткой.
— Отбивать и подавать — та цена, которую мне придётся заплатить за твою оценку моих картин?
Он улыбнулся.
— Цену я назову, но она другая. Я тебе скажу. Пошли.
iii
Уайрман провёл меня через чёрный ход. Оставив позади темноватую кухню с большими белыми столами для готовки и огромной плитой «Вестингхауз», мы оказались непосредственно в жилых помещениях, поблёскивающих тёмным деревом: дубом, грецким орехом, тиком, секвойей, кипарисом. Это был Palacio, построенный в старинном флоридском стиле. Мы миновали комнату, уставленную стеллажами с книгами, в углу о чём-то размышляли рыцарские доспехи. Библиотека выводила в кабинет, стены которого украшали картины, не тёмные портреты маслом, а яркие абстракции, даже парочка оп-артов, [66] от которых глаза вылезали из орбит.
Свет падал на нас сверху белым дождём, когда мы шли по главному коридору (Уайрман шёл, я — хромал), и я понял, что при всём великолепии особняка мы находимся пусть и в шикарном, но обычном крытом переходе, который разделяет части старых и куда более скромных флоридских домов. У этого стиля (дома всегда строили из дерева, иногда из обрезков) даже есть название: флоридская нищета.
Вдоль стен перехода, ярко освещённого сквозь стеклянный потолок, выстроились декоративные цветочные горшки. В дальнем конце Уайрман повернул направо, и мы очутились в огромной, прохладной гостиной. Окна выходили на боковой дворик, весь в цветах. Мои дочери назвали бы половину, Пэм — все, я распознал только астры, коммелину, самбук, наперстянку. Ах да, и рододендроны. Их было много. За цветами и кустами тянулась дорожка, выложенная синей керамической плиткой, вероятно, уходящая к главному двору, а на ней стояла цапля, задумчивая и мрачная, словно старейшина-пуританин, размышляющий, какую из ведьм сжечь следующей.
В комнате находилась женщина, с который мы с Илзе повстречались в тот день, когда отправились исследовать Дьюма-Ки-роуд. Тогда она сидела в инвалидном кресле, с синими кедами на ногах. Теперь она стояла, ухватившись за рукоятки ходунков. Босиком, и ступни у неё были большие и очень белые. Её наряд, бежевые брюки с высокой талией и тёмно-коричневая шёлковая блузка с невероятно широкими плечами и пышными рукавами, напомнил мне Кэтрин Хепберн в тех старых фильмах, которые иногда показывают по кабельному каналу «Классическое кино Тёрнера»: «Ребро Адама» или «Женщина года». Только я не помнил, чтобы Кэтрин Хепберн выглядела такой старой, даже когда состарилась.
Середину комнаты занимал длинный низкий стол, похожий на тот, что отец поставил в подвале нашего дома для своих электрических поездов. Только этот покрывала не искусственная трава, а какое-то светлое дерево, может, бамбук. Стол заполняли игрушечные дома и фарфоровые статуэтки: мужчины, жёнщины, дети, домашние животные, животные из зоопарка, мифические существа. И если уж говорить о мифических существах, то парочку изготовили чернолицыми, нарываясь на недовольство НАСПЦН. [67]
Элизабет Истлейк взглянула на Уайрмана с той нежной радостью, которую я с удовольствием бы нарисовал… хотя не уверен, что кто-нибудь воспринял бы это серьёзно. Сомневаюсь, что в нашем искусстве мы верим простым и чистым эмоциям, хотя постоянно видим их вокруг нас, изо дня вдень.
— Уайрман! — воскликнула женщина. — Я проснулась рано и так хорошо провела время с моими статуэтками. — Говорила она с сильным южным акцентом: «ста-а-туэтка-а-ми». — Посмотри, вся семья дома!
В конце стола стояла маленькая копия особняка с колоннами. Вспомните Тару из «Унесённых ветром» и не ошибётесь. Или уса-а-дьбу, если вы говорите, как Элизабет. Вокруг стояли с десяток статуэток. Словно собрались на какую-то церемонию.
— Это точно, — согласился Уайрман.
— И школа! Я поставила детей рядом со школой! Посмотри!
— Я посмотрю, но вы знаете, я не люблю, когда вы встаёте без меня.
— Мне не хотелось вызывать тебя по рации. Я действительно очень хорошо себя чувствую. Пойди и посмотри. И пусть посмотрит твой новый друг. Ох, я знаю, кто вы! — Она улыбнулась и поманила меня пальцем. — Уайрман мне всё о вас рассказывает. Вы поселились в «Салмон-Пойнт».
— У него своё название — «Розовая громада», — вставил Уайрман.
Она рассмеялась. Как часто случается с курильщиками, смех перешёл в кашель. Уайрман поспешил к ней, поддержал. Мисс Истлейк не возражала.
— Мне нравится, — одобрила она, когда смогла говорить. — Ох, милый мой, мне очень нравится! Подойдите и посмотрите, как я поставила детей. Мистер?.. Я уверена, мне называли вашу фамилию, но не могу вспомнить, как и многое другое, мистер?..
— Фримантл, — подсказал я. — Эдгар Фримантл.
Я подошёл к её столу со статуэтками. Она протянула мне руку. Не мускулистую, но большую, как и её ноги. Она не забыла, как здороваются, и руку пожала мне крепко. При этом с живым интересом разглядывала меня. Мне понравилось, что она так легко признаётся в проблемах с памятью. Что же касалось болезни Альцгеймера, была она у неё или нет, но я запинался и в разговоре, и в поиске слов куда чаще, чем мисс Истлейк.
— Приятно познакомиться с вами, Эдгар. Я видела вас раньше, но не помню, где и когда. Потом вспомню. «Розовая громада»! Это лихо!
— Мне нравится дом, мэм!
— Хорошо. Я очень рада, когда он нравится. Дом для художника, знаете ли. Вы — художник, Эдгар?
Она смотрела на меня бесхитростными синими глазами.
— Да. — Я дал самый простой, самый быстрый и, возможно, правдивый ответ. — Скорее да, чем нет.
— Разумеется, художник, дорогой, я это сразу поняла. Мне нужна одна из ваших картин. Уайрман обговорит с вами цену. Он не только прекрасный повар, но и юрист. Он вам это говорил?
— Да… нет… я хочу сказать… — Я сбился. Она постоянно переводила разговор с одного на другое. Уайрман, этот негодяй, выглядел так, будто с трудом сдерживает смех. Отчего мне тоже хотелось рассмеяться.
— Я пытаюсь собирать картины всех художников, которые останавливались в вашей «Розовой громаде». У меня есть картина Харинга, написанная там. И рисунок Дали.
Вот тут желание смеяться пропало напрочь.
— Правда?
— Я скоро вам его покажу, этого не избежать, он в телевизионной комнате, а мы всегда смотрим Опру. Верно, Уайрман?
— Да, — кивнул он и глянул на часы, закреплённые на внутренней стороне запястья.
— Но нам не обязательно смотреть эту передачу от начала и до конца, потому что у нас есть замечательное устройство, которое называется… — Она замолчала, нахмурилась, приложила палец к ямочке на пухлом подбородке. — Вито? Оно называется Вито, Уайрман?
Он улыбнулся. — «ТиВо», [68] мисс Истлейк. Она рассмеялась.
— «ТиВо», разве не забавное слово? И разве не забавно, как формально мы обращаемся друг к другу. Он для меня Уайрман, я для него — мисс Истлейк… если только я не расстроена, а такое случается, когда я что-то забываю. Мы — как персонажи в пьесе! Счастливой пьесе, где все поют, как только начинает играть музыка! — Она рассмеялась, показывая, какая замечательная это пьеса, но в смехе чувствовался и надрыв. И впервые её акцент заставил меня подумать о Теннесси Уильямсе, а не о Маргарет Митчелл.
— Может, нам пора перейти в другую комнату и посмотреть Опру, — мягко, очень мягко предложил Уайрман. — И я думаю, вам нужно присесть. Вы сможете выкурить сигарету, когда будете смотреть Опру, и вы знаете, как вам это нравится.
— Через минуту, Уайрман, через минуту. У нас так редко бывают гости! — Она повернулась ко мне. — Что вы за художник, Эдгар? Вы верите в искусство ради искусства?