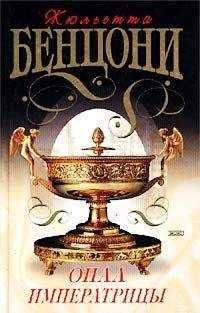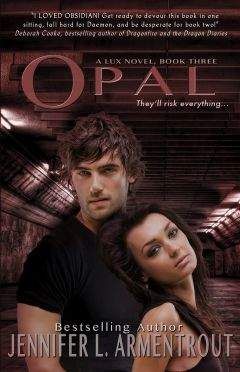Стивен Кинг - Лавка дурных снов (сборник)
– Судья Бичер, если вам хочется получить официальное утверждение завещания, на вашем месте я бы помалкивал обо всем, что вы сейчас мне рассказали. Вы уверены, что никто не оспорит ваше завещание, но когда речь идет о немалых деньгах, троюродная-пятиюродная родня имеет обыкновение появляться из ниоткуда, словно кролики из шляпы фокусника. И вам известна освященная временем формула: в здравом уме и твердой памяти.
– Я молчал восемьдесят лет, – говорит Бичер, и в его голосе Уэйленд явственно слышит: протест отклоняется. – Никому ни единого слова, до сегодняшнего дня. И, возможно, мне следует повторить, хотя это и так очевидно… все наши беседы строго конфиденциальны.
– Ясно, – говорит Уэйленд. – Я понял.
– В те дни, когда на песке появлялись имена, меня переполняло волнение… какое-то нехорошее возбуждение, нездоровое… но по-настоящему я испугался всего один раз. Испугался до глубины души и плыл обратно домой, словно за мной гнались все черти ада. Рассказать?
– Да, пожалуйста.
Уэйленд отпивает еще глоток виски. Почему бы и нет? У него почасовая оплата.
– Дело было в пятьдесят девятом. Я жил здесь, в «Пойнте». Я жил здесь всегда, кроме нескольких лет в Таллахасси, но об этом лучше не вспоминать… хотя сейчас я понимаю, что моя ненависть к этому заштатному городишке проистекала отчасти – или даже по большей части – из тяги к острову, к дюне. Понимаете, я все время думал о том, что мог упустить. Кого я мог упустить. Способность читать некрологи заранее придает человеку потрясающее ощущение силы. Возможно, вам неприятно такое слышать, и тем не менее.
Итак, пятьдесят девятый. Харви Бичер подвизается в юридической фирме в Сарасоте и живет в «Пеликан-Пойнте». Почти каждый день, если не было дождя, возвращаясь домой с работы, я переодевался в старую одежду и плыл на остров, на разведку перед ужином. В тот день мне пришлось задержаться в конторе, и когда я прибыл на остров, солнце уже садилось, большое и красное, как часто бывает у нас над заливом. Я добрался до дюны и застыл как громом пораженный. Я не мог сдвинуться с места, ноги словно приросли к земле. И это не просто фигура речи.
В тот вечер на дюне было написано не одно имя, а много имен, и в красном свете заката казалось, будто их написали кровью. Они теснились, сплетались, накладывались одно на другое. Буквально вся дюна была покрыта гобеленом имен, сверху донизу. Те, что в самом низу, уже наполовину смыла вода.
Наверное, я закричал. Точно не помню, но кажется, да. Помню только, как паралич отпустил, и я со всех ног бросился к лодке. Пока я развязывал узел, прошла целая вечность, а когда все-таки развязал, толкнул лодку в воду, даже не забравшись в нее. Промок до нитки, и удивительно, как я вообще ее не опрокинул. Хотя в те годы я легко добрался бы до берега вплавь, толкая лодку перед собой. Теперь так уже не получится. Если лодка перевернется сейчас, как говорится, пиши пропало. – Судья улыбается. – К слову о надписях.
– Тогда я советую вам оставаться на суше, во всяком случае, пока завещание не будет нотариально заверено.
Судья Бичер холодно улыбается.
– Не беспокойтесь об этом, сынок, – говорит он и задумчиво смотрит в окно, на залив. – Те имена… они так и стоят у меня перед глазами, втиснутые в эту кроваво-красную дюну. Два дня спустя в Эверглейдсе разбился пассажирский лайнер, летевший в Майами. Весь экипаж и пассажиры погибли. Сто девятнадцать человек. В газете был список пассажиров. Я узнал некоторые имена. Узнал многие имена.
– Вы их видели. Видели эти имена.
– Да. Несколько месяцев после этого я не плавал на остров и поклялся себе, что не поплыву уже никогда. Думается, наркоманы так же клянутся завязать. Но, как любой наркоман, в конечном итоге я дал слабину и возобновил свою пагубную привычку. Ну что ж… Теперь вам понятно, почему я пригласил вас сюда и почему завещание надо было исправить сегодня?
Уэйленд не верит ни единому слову, но, как во всякой фантазии, тут есть своя логика. Ее легко проследить. Судье девяносто; когда-то румяное и цветущее, его лицо стало землистым, некогда твердая походка превратилась в неуверенное старческое шарканье. У него явно сильные боли, он как-то нехорошо похудел.
– Полагаю, сегодня вы увидели на песке свое имя, – говорит Уэйленд.
Судья Бичер испуганно вздрагивает, потом улыбается. Жутковатая улыбка превращает его худое бледное лицо в оскаленный череп.
– О нет, – говорит он. – Не свое.
С мыслями об У.Ф. Харви
Гадкий мальчишка[9]
Перевод Т. Покидаевой
В жизни столько важных вопросов! Судьба или случай? Рай или ад? Любовь или влечение? Здравый смысл или минутный порыв?
«Beatles» или «Rolling Stones»?
Я всегда выбирал «Stones». «Beatles» сделались чересчур мягкими, когда стали Юпитером в Солнечной системе поп-музыки. (Моя жена говорила, что у сэра Пола Маккартни «глаза старого пса», и это отчасти суммирует мои ощущения.) Но ранние «Beatles»… они играли настоящий, честный рок, и я до сих пор слушаю их старые песни – в основном каверы – с большой любовью. Иногда я даже встаю и немного танцую.
Одной из самых любимых моих композиций у «Beatles» была их перепевка «Гадкого мальчишки» Ларри Уильямса, где Джон Леннон солировал хриплым, напористым голосом. Больше всего мне нравилась строчка: «Давай-ка, веди себя хорошо». В какой-то момент я решил, что хочу написать рассказ о гадком мальчишке, поселившемся по соседству. И это будет не сатанинский отпрыск, не ребенок, одержимый каким-то древним демоном, как в «Изгоняющем дьявола», а просто гадкий мальчишка, гнусный до мозга костей, – зло ради зла, апофеоз всех мелких гаденышей, которые были, есть и будут. Мне он виделся в шортах и бейсболке с пропеллером. Он только и делал, что пакостил всем и каждому, и никогда в жизни не вел себя хорошо.
Из этого образа вырос рассказ о гадком мальчишке, этаком зловредном двойнике Слагго из комиксов о Нэнси. В электронном виде рассказ уже вышел во Франции и Германии, где «Гадкий мальчишка» наверняка входил в репертуар «Beatles» в гамбургском «Звездном клубе». Это первая публикация на английском.
1
Тюрьма располагалась в двадцати милях от ближайшего городишки, на пустынной равнине, продуваемой всеми ветрами. Главное здание являло собой грозный каменный кошмар, возникший посреди чистого поля в начале двадцатого века. С двух сторон из него вырастали бетонные пристройки – тюремные корпуса, которые добавлялись поочередно на протяжении последних сорока пяти лет. В основном они строились на федеральные средства, хлынувшие рекой в годы президентства Никсона и с тех пор не иссякавшие.
На некотором расстоянии от главного корпуса стояло здание поменьше. Заключенные называли его Прививочным корпусом. От него отходил наружный коридор длиной сорок ярдов и шириной двадцать футов, огороженный плотной металлической сеткой: Куриный загон. Каждому из заключенных, содержавшихся в Прививочном корпусе – на тот момент их было семеро, – разрешалось гулять в загоне по два часа ежедневно. Кто-то ходил. Кто-то бегал трусцой. Большинство просто сидели, прислонившись спиной к сетчатому ограждению, и смотрели на небо или на низенький горный кряж, разрезавший равнинный пейзаж в четверти мили к востоку. Иногда там бывало на что посмотреть. Но чаще смотреть было не на что. Почти всегда дул сильный ветер. Три месяца в году в Курином загоне было жарко, как в топке. В остальное время – холодно. Зимой – так и вовсе дубак. Но даже зимой заключенные не отказывались от прогулок. Все-таки там было небо. Птицы. Иной раз олени щипали траву на вершине низеньких гор, свободные и вольные бродить где вздумается.
В центре Прививочного корпуса располагалась облицованная кафелем комната, где стоял стол в форме буквы Y и хранился рудиментарный набор медицинского оборудования. В одной стене было окно, задернутое плотными шторами. Если раздвинуть шторы, за ними открывалось обзорное помещение размером не больше гостиной в типовом пригородном доме, с дюжиной пластиковых стульев для гостей, наблюдавших за Y-образным столом. Табличка на стене гласила: «СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ И НЕ ДЕЛАЙТЕ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ».
В Прививочном корпусе было ровно двенадцать камер. За камерами – караульное помещение для надзирателей. За ним – пост охраны, где шло круглосуточное дежурство. За постом – комната для свиданий, где стена из толстого оргстекла отделяла стол со стороны заключенных от стола со стороны посетителей. Телефонов там не было, общение происходило через круг высверленных в стекле маленьких дырочек, похожих на дырочки микрофона в старых телефонных трубках.
Леонард Брэдли уселся за стол со своей стороны этого канала связи и открыл портфель. Выложил на стол блокнот и ручку. Потом просто сидел и ждал. Когда минутная стрелка у него на часах сделала три полных круга и пошла на четвертый, дверь, ведущая во внутренние помещения Прививочного корпуса, открылась с громким лязгом отодвигаемых задвижек. Брэдли уже знал всех охранников. Сегодня дежурил Макгрегор. Неплохой парень. Он держал Джорджа Халласа за руку повыше локтя. Руки Халласа были свободны, но по полу звенела стальная цепь, сковывавшая лодыжки. Поверх оранжевой тюремной робы на нем был широкий кожаный ремень, и когда Халлас уселся за стол с той стороны стекла, Макгрегор приковал его к спинке стула еще одной стальной цепью, закрепленной на поясе. Он застегнул цепь, подергал ее, проверяя на прочность, и отсалютовал Брэдли двумя пальцами: