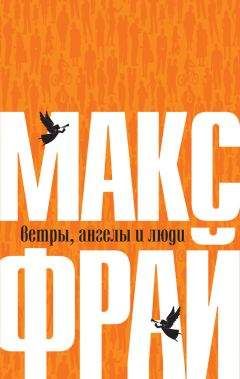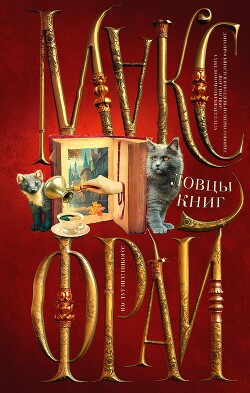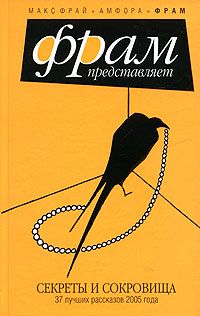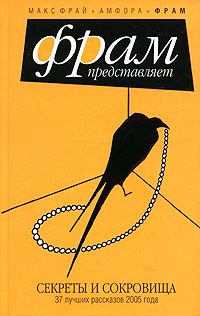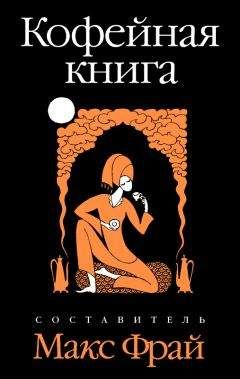Волна вероятности - Фрай Макс
Шел, не шатался только потому, что его держали рука Юрате и тень Аньова (натурально придерживала за шиворот, он это физически ощущал), узнавал все вокруг, не узнавая. За углом должен быть бульвар – где бульвар?! Там, где теперь бутик, была сапожная мастерская, сапожника звали Арунас, ужасно общительный, дверь держал нараспашку весь день. Вместо кафе здесь была цветочная лавка. И другого (какого? зеленого, кажется) цвета дома.
Вспоминал с каждым шагом все больше, все сильнее хотел увидеть тот город своими глазами, убедиться, что он еще есть. Заново обретенная бесшабашная храбрость требовала немедленного применения. Плюс он действительно плохо соображал и (наверное) верил, что одним своим взглядом может все воскресить. Все это вместе привело к тому, что Миша (сейчас – Казимир) почти беззвучно сказал на родном языке Анн Хари, не чувствуя ни малейшего внутреннего сопротивления: «Я в том Вильнюсе, где был художником». Больше он ничего не успел. Даже испугаться, подумать: «Я что, умираю?» – так быстро его поглотила тьма.
Вильнюс, никогда
Когда Миша (Мирка, Анн Хари; нет, мы с ним еще не запутались в именах, потому что он сейчас про «Анн Хари» не помнит и «Мирку» считает прозвищем, а я, если что, могу подсмотреть в конспект) – так вот, когда Миша пришел в себя, он лежал на мощенном булыжником тротуаре, но ничего не болело, и первое, что он подумал: «Это я удачно упал, молодец». Открыл глаза, огляделся, отметил: вот теперь все правильно выглядит, это мой город, наш. И только потом уже понял, что Аньова нет рядом. Или Юрате. Кем бы он сейчас ни был, все равно куда-то пропал.
«Или это я пропал, – наконец сообразил Миша. – Ну точно! Главное, сам же дурак. Надо было сказать: „Мы вместе в том Вильнюсе, где я был художником“. „Мы“, а не „я“! Эгоцентризм до добра не доводит. Ну или доводит. Просто приходишь к добру один».
«Жалко ужасно. Сказал бы „мы“, погуляли бы здесь вдвоем», – думал Миша, пока осторожно, опираясь на стену ближайшего дома, поднимался на ноги, которые сейчас не просто дрожали, а текли, как две небольшие реки; понятно, что ему это только казалось, но субъективные ощущения – единственное, что у нас действительно есть.
Стоять на текущих, бегущих, звенящих, бурных ногах было непросто, но Миша (Анн Хари) на своем веку не раз и не два падал в обморок (как всякий адрэле, который любит настоять на своем). И знал по опыту, что тело как-нибудь справится, быстро придет в порядок, восстановит баланс.
«Ладно, – сказал он себе. – Что сделано – сделано, задним числом не исправишь. Спасибо, что вообще получилось. Что я жив и здесь наяву. И если правильно помню, тут где-то рядом „Исландия“. Совсем дураком буду, если туда не зайду».
Он сперва перепутал, свернул не туда, но быстро сообразил, развернулся в правильном направлении и пошел по Майронё в сторону Ясной. Сам удивлялся, насколько этот безлюдный город ощущается не просто знакомым – своим. Как будто он ходил здесь не полвека назад, а буквально вчера – в пустую табачную лавку за сигаретами, в пустую пекарню за вечно теплым луковым пирогом, в пустой магазин «Художник» за красками и холстами, в Бернардинский сад, где безлюдно, как всюду в городе, но если прийти к беседке Сердец и достаточно долго стоять там, зажмурившись, можно услышать музыку, а потом открыть глаза, увидеть, как кружатся в танце влюбленные пары, и на миг поверить: мы продолжаемся, есть.
Об это воспоминание – как ходил в Бернардинский, чтобы на миг ощутить всемогущество, воскрешая своим вниманием даже не самих танцоров, а то положение дел, когда они еще были возможны – Миша (Мирка, художник из синего дома, Анн Хари, Ловец книг из Лейна) споткнулся, как об физическое препятствие, корягу или порог, только ушиб не ногу, а сердце, даже больше, чем сердце – все свое существо. Сел на землю и – ну, просто заплакал от боли, как ребенок, разбивший коленку; впрочем, сам он в детстве из-за такой ерунды не плакал, только в книжках об этом читал и всегда удивлялся, зачем они плачут, когда можно просто сказать: «Не болит!» – и дальше бежать.
Удивительно даже не то, что он заревел, а что плакать здесь было счастьем. Здесь все было в равной степени счастьем – плакать, смеяться, смотреть, удивляться, молчать, рисовать, дышать, говорить, курить, засыпать, просыпаться, ссориться, обниматься, любить, скучать по дому, пить кофе, вино и воду, мерзнуть, спорить, впадать в отчаяние – неважно, что, как и кем, лишь бы быть. «Вот поэтому, – вспомнил Миша (Мирка, Анн Хари), – я здесь так надолго остался, не хотел никуда уходить. Не потому, что так уж жаден до счастья, его мне и дома хватало. Просто реальность, где вот такое вот счастье – фундамент и норма, должна продолжаться. Нельзя, нечестно, чтобы она исчезала. Я так не согласен. Если не станет ее, пусть не станет меня. Не хочу быть частью Вселенной, где на месте этого счастливого мира теперь ТХ-19, которую я хорошо изучил, и раньше считал, что можно согласиться с ее существованием ради книг, которые там бывают упоительно хороши. Но здесь-то и книги всегда были лучше. Примерно такие, как у нас бы писали, если бы нам позволял наш язык».
«Все-таки удивительно, – думал Миша (Мирка, Анн Хари), поднимаясь и вытирая мокрые щеки мокрым насквозь рукавом, – что Аньов в итоге меня переспорил и отправил домой. Но, получается, правильно сделал. Или неправильно?.. Во всяком случае, не фатально, раз наш город есть до сих пор. И сейчас я зайду в „Исландию“. В нашу „Исландию“ я настоящий зайду наяву».
Вывеску «Ísland» над входом он увидел издалека; на самом деле, не столько разглядел бледно-голубые прозрачные буквы, по замыслу оформителя как бы сделанные из льда, сколько вспомнил, как они выглядят, обрадовался и побежал. Дверь «Исландии» была покрашена черной краской, из-под которой местами проступала зеленая, а из-под зеленой – изначальная красно-коричневая, но чтобы ее увидеть, надо разглядывать очень внимательно, обычно никто не замечал. Она, эта чертова исландская дверь, оказалась такая тяжелая, что открыл ее только с третьей попытки, забыл, как сильно надо толкать.
Дверь наконец поддалась, он вошел и застыл на пороге, оглядываясь по сторонам. Разномастная мебель, темно-синие стены, на стенах афиши, плакаты и просто вырезки из журналов, карты улиц Рейкьявика и Акюрейри [23], яркие лампы над стойкой и такая густая, живая, приветливая темнота по углам, что Мише в первый момент показалось, будто в одном из кресел кто-то сидит, он уже почти узнал Пятраса, но потом все-таки понял, что померещилось, никого там на самом деле нет. Все равно помахал рукой отсутствию Пятраса, как помахал бы ему самому и громко, словно перекрикивал шум голосов (память о голосах, которые здесь когда-то звучали), сказал: «Блешуд». Даже не то чтобы вспомнил давно забытое слово, скорее уж слово вспомнило, что умеет выговариваться его губами, звучать из него. Такая в баре «Исландия» была традиция – здороваться по-исландски, это первое, чему Ина и Гларус учили клиентов, включая случайных прохожих, завернувших на огонек. «„Blessuð“ – что-то вроде благословения; нам всем, – вспомнил Миша (Анн Хари), – казалось, это должно сработать. Ну, что мы друг друга постоянно благословляем. Что накопится какая-то критическая масса благословений и в один прекрасный день перевесит все остальное. Всю эту сраную неизбежность, весь этот зловещий рок».
Он подошел к плите, где стояла кастрюля с глинтвейном, горячим, словно Ина только что сказала: «Ну все, готово», – и погасила огонь. Взял кружку, плеснул туда совсем немного, примерно треть черпака. Попробовал и снова чуть не заплакал, как недавно на улице, всем собой с разбегу ударившись об этот неповторимый знакомый вкус. Ина всегда разбавляла сухое вино грушевым соком, или компотом, или сиропом, черт ее знает, он ее не расспрашивал; может быть, зря. Просто Ина казалась такой специальной волшебной феей, у которой бессмысленно узнавать рецепты, важно не чего куда положили и сколько все это варили, а то, что готовит – она.