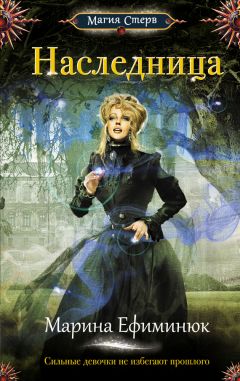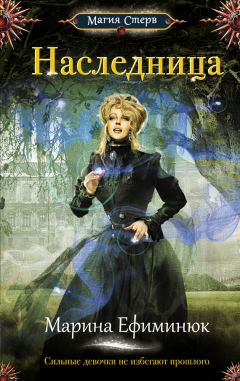Виктория Шваб - Архив
Он крутит в руках мой подарок.
— Как тебе…
— Я там теперь живу.
Оуэн прерывисто вздыхает:
— Так вот куда ведут эти двери? — В его голосе сквозит неприкрытая тоска. — Кажется, я с самого начала это чувствовал.
Он достает хрупкую бумажку из кольца и читает в темноте. Я смотрю, как движутся его губы, когда он еле слышно повторяет прочитанное.
— Это из той сказки, — шепчет он, — которую она сочинила перед гибелью.
— О чем была сказка?
Его глаза затуманиваются. У меня не укладывается в голове, что он способен вспомнить подобное. Но тут я вспоминаю о том, что он провел десятилетия во сне. Убийство Регины для него — такая же свежая, болезненная рана, как гибель Бена для меня.
— Это было что-то вроде одиссеи. Она сотворила из Коронадо гигантский мир, с семью этажами, полными приключений. Герой боролся с драконами в пещерах, взбирался по отвесным стенам, заоблачным горам, преодолевал смертельные опасности. — Он тихо смеется, предаваясь воспоминаниям. — Регина могла придумать сказку из ничего. — Он сжимает кольцо и бумажку в ладони. — Могу я оставить это себе, пока день не кончен?
Я киваю, и его глаза светятся надеждой. Прямо как я и хотела. И я ненавижу себя за то, что украду у него эту последнюю искру надежды, но у меня нет выбора. Я должна знать.
— Когда мы встречались в прошлый раз, ты хотел рассказать мне о Роберте. Что с ним было дальше?
Свет гаснет в глазах Оуэна, будто я задула огонек свечи.
— Он сбежал, — цедит он сквозь сжатые зубы. — Ему позволили скрыться. Я позволил. Я был ее старшим братом, и я… — Его голос полон боли, но глаза, глядящие на меня, ясные, трезвые. — Когда я очнулся здесь, то сперва подумал, что попал в ад. Что наказан за то, что не смог найти Роберта, не перевернул мир вверх дном и не разыскал его. За то, что не растерзал его в клочья. А я бы это сделал, Маккензи, я бы это сделал. Он этого заслуживал. Он заслуживал много худшего.
Мое горло сжимает тисками, когда я говорю ему то, что сама слышала бессчетное количество раз:
— Этим ее не вернуть.
— Знаю. Поверь, я это знаю. И я бы сделал намного хуже, — признается он, — если бы знал, что этим можно вернуть ее к жизни. Я бы поменял местами белое и черное, я бы торговал душами. Я бы разнес этот мир на куски. Я нарушил бы любое правило, лишь бы ее вернуть.
У меня болит сердце. Не перечесть, сколько раз я сидела перед ящиком Бена и размышляла, как его разбудить. И не могу отрицать, как часто после встречи с Оуэном я думала, что Бен не сорвется: если Оуэн смог, почему Бен не справится?
— Я должен был ее защищать, — говорит он, — а ее убили из-за меня. — Наверное, он расценивает мое молчание как жалость, потому что добавляет: — Я даже не прошу, чтобы ты меня поняла.
Но все дело в том, что я его понимаю. Слишком хорошо.
— Мой младший брат погиб, — говорю я. Слова сами собой слетают с языка, я не могу ничего поделать. Оуэн не говорит стандартного «мне жаль». Он просто пододвигается ближе, так что мы почти соприкасаемся.
— Что случилось? — спрашивает он.
— Его убили, — шепчу я, — сбила машина. Водитель скрылся. Я бы все отдала, чтобы заново прожить это утро, чтобы довести Бена до школы, лишние пять минут обнимать его, держать за руку, сделать что-нибудь, чтобы не допустить того, что произошло. Когда он переходил улицу.
— А если бы ты нашла водителя… — начинает Оуэн.
— Я бы его убила. — В моем голосе нет ни тени сомнения.
Воцаряется тишина.
— Каким он был? — спрашивает Оуэн, коснувшись своим коленом моего. Это происходит так просто, словно я обычная девушка, а он — обычный парень, и мы сидим в коридоре — любом, но не в Коридорах, — и я не рассказываю о погибшем брате Историю, которую должна отправить на Возврат.
— Бен? Он был слишком серьезным для своих лет. Ему невозможно было соврать, даже про Санта-Клауса и Пасхального Кролика. Он надевал пластмассовые очки без линз и смотрел на тебя, словно выискивая трещинки. И ни на чем, кроме рисования, не хотел сосредотачиваться. Он был очень одаренный мальчик. И часто меня смешил. — С самой смерти Бена я о нем ни разу так не говорила. — Иногда он мог быть настоящим сорванцом. Ненавидел делиться. Он предпочитал сломать вещь, а не уступить ее. Как-то раз он сломал целую коробку карандашей, потому что я хотела взять один. Будто надеялся, что ими нельзя уже будет пользоваться. А я взяла маленькую пластиковую точилку и заточила все сломанные половинки, так что у каждого оказалось по набору. Они стали вдвое короче, но ими все равно можно было рисовать. Это свело его с ума. — Я невольно смеюсь, и мне сдавливает грудь. — Мне почему-то кажется, что смеяться — неправильно, — шепотом признаюсь я.
— Разве это не странно? Будто после того, как их не стало, ты можешь помнить только хорошее. Но человек — не собрание одних достоинств.
Я чувствую поскребывание букв в кармане, но не обращаю внимания.
— Я ходила к полкам навещать его, — продолжаю я. — Говорила с ним, точнее, с его ящиком, рассказывала о том, что он пропустил. Ничего особенного, конечно. Что-то обычное, прозаическое. Но как бы я ни старалась хранить о нем память, рано или поздно все начинает забываться. Постепенно, деталь за деталью. Иногда мне кажется, что я не открываю ящик и не пытаюсь разбудить его только из-за того, что сознаю: это будет не настоящий Бен. Мне сказали, что в этом нет никакого смысла, потому что он не будет иметь ничего общего с человеком, которого я знала и любила.
— Потому что Истории — это не люди.
Я вздрагиваю:
— Нет. Дело не в этом.
Хотя многие Истории не являются человечными, как сам Оуэн.
— Дело в том, что Истории следуют определенному сценарию. Они срываются. Сознание того, что я могу причинить ему боль, заставить его испытать мучение, а потом все равно отправить на полку, останавливает меня.
Я чувствую, что рука Оуэна зависла над моей. Он ждет, остановлю ли я его. Когда я этого не делаю, он переплетает свои пальцы с моими. Весь мир замирает от его прикосновения. Я запрокидываю голову назад, чтобы она опиралась о стену, и закрываю глаза. Мне нужна эта тишина. Она вытесняет мысли о Бене.
— Я не чувствую, что срываюсь, — говорит Оуэн.
— Потому что ты не срываешься.
— Выходит, это возможно? А что, если…
— Замолчи! — Я высвобождаю свою руку и поднимаюсь.
— Прости меня, — встает он следом. — Я не хотел тебя расстроить.
— Я не расстроена, — говорю я. — Но Бена больше нет. Его невозможно вернуть.
Я говорю это скорее всего самой себе, а не ему. Я отворачиваюсь. Мне нужно идти. Нужно охотиться.
— Подожди, — говорит он и снова берет меня за руку. Меня заполняет тишина, а он показывает мне листок, завернутый в кольцо. — Если найдешь еще записки от Регины, ты принесешь их мне?
Я замираю на выходе из закутка.
— Прошу тебя, Маккензи. Это все, что у меня осталось. Что бы ты отдала за вещь Бена, которую могла бы хранить?
Я вспоминаю о том, как высыпала на кровать содержимое коробки с вещами Бена, как лихорадочно искала хотя бы обрывок, блеклую картинку. Как баюкала дурацкие очки, сохранившие размытое воспоминание.
— Я постараюсь, — говорю я, и Оуэн порывисто обнимает меня. Я вздрагиваю по привычке, но чувствую лишь спокойствие и тишину.
— Спасибо, — шепчет он мне в ухо. От прикосновения его губ к моей коже краска заливает мое лицо. Потом он раскрывает объятия, забирая всю тишину и покой с собой, и отступает в темноту, так что видна только корона серебристых волос. Я заставляю себя уйти на охоту.
Как бы ни было приятно его прикосновение, расхаживая по Коридорам, я думаю совсем о другом. О его словах. Я пыталась избавиться от этих мыслей, но они снова и снова крутились в моей голове.
«А что, если…» эхом повторяет память.
«А что, если…» следует за мной по пятам.
«А что, если…» приходит вслед за мной домой.
Глава двадцатая
Я выглядываю в холл из-за двери, ведущей в Коридоры, и убеждаюсь, что все чисто. Надев кольцо, выхожу на третий этаж. Мне удалось сократить список на своем листке до двух имен, но их тут же стало четыре. Какие бы технические проблемы ни были у них в Архиве, я надеюсь, что их скоро разрешат. Я безумно устала и не могу думать ни о чем, кроме отдыха.
На стене напротив висит зеркало, и я разглядываю в нем себя, прежде чем пойти домой. Несмотря на усталость, изъевшую меня до костей, несмотря на страх и растерянность, я выгляжу… очень неплохо. Дед всегда говорил, что учит меня «играть в карты», что всегда можно выиграть, если ничего не отразится в моих глазах. Должно быть хоть что-то — морщинка на лбу или сжатые зубы.
Но меня ничто не выдает.
За своим отражением я вижу марину, покосившуюся, словно бушующие на ней волны сдвинули с места раму. Я подхожу и поправляю ее. Картина слегка скрипит, когда я ее двигаю. Кажется, здесь все может рассыпаться от одного сквозняка.