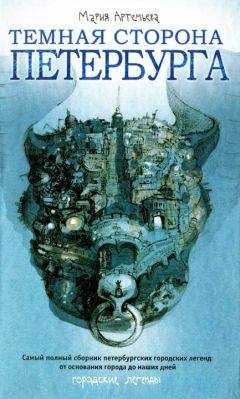Лада Лузина - Ледяная царевна и другие зимние истории (сборник)
– Повезло тебе, Мария, невеселой была доля твоя – безмужняя, бездетная. Ждали тебя впереди только горести да печали. Но, пожелав спасти любимую крестницу, ты села в саночки вместе с ней – и изменила свою судьбу. Девчушка была слишком удачлива, чтобы погибнуть. А ты была с ней… и как я уже говорила, я не переписываю девичьих судеб на белом снегу.
Так закончилась эта история.
Мария очнулась на дальнем берегу, вскочила с саночек, побежала со всех ног в село и положила крестницу обратно в люльку. Так никто никогда и не узнал, что малышка была вместе с ней в страшный миг – все решили, что удачу ей принесла тряпичная кукла. С тех пор так и повелось: садясь в санки на праздник Святой Катерины, девушки брали с собой самодельную ляльку на счастье. Или садили куколку в сани вместо себя и спускали с горы. Так и прозвали такую куколку – санница.
В следующем году Мария вышла замуж за Павла. А когда ее маленькая крестница Катя подросла, она, как и предсказывали, стала женой самого князя, и на долгие годы их край сделался счастливым и богатым.
То было давно. Может, столетье назад, может, больше. Но и спустя много лет, с началом зимы, 7 декабря, в день Святой Катерины[2], многие, по-прежнему делали обрядовых куколок-санниц и гадали с их помощью, а крестные родители непременно дарили их на счастье своим крестникам вместе с нарядными санками.
И кто знает, быть может, именно поэтому елочная игрушка санница появилась одной из первых? И с тех пор всегда приносит счастье в ваш дом!
Владимир Одоевский. Сказки
Насмешка мертвеца
Ревела осенняя буря; река рвалась из берегов; по широким улицам качалися фонари; от них тянулись и шевелились длинные тени; казалось, то подымались с земли, то опускались темные кровли, барельефы, окна. В городе еще все было в движении; прохожие толпились по тротуарам; запоздавшие красавицы, как будто от бури, то закрывали, то открывали свои личики, то оборачивались, то останавливались; толпа молодежи их преследовала и, смеясь, благодарила ветер за его невежливость; степенные люди осуждали то тех, то других и продолжали путь свой, жалея, что им самим уже поздно за то же приняться; колеса то быстро, то лениво стучали о мостовую; звук уличных рылей носился по воздуху; и из всех этих разнообразных, отдельных движений составлялось одно общее, которым дышало, жило это странное чудовище, складенное из груды [людей и] камней, которое называют многолюдным городом. Одно небо было чисто, грозно, неподвижно – и тщетно ожидало взора, который бы поднялся к нему.
Вот с моста, вздутого прибывшей волною, вихрем скатилась пышная, щегольская карета, во всем похожая на другие, но в которой было нечто такое, почему прохожие останавливаются, говорят друг другу; «Это, верно, молодые!» – и с глупою радостью долго провожают карету глазами.
В карете сидела молодая женщина; блестящая перевязка струилась между ее черными локонами и перевивалась с нераспустившимися розами; голубой бархатный плащ сжимал широкую блонду[3], которая, вырываясь из своей темницы, волновалась над лицом красавицы, как те воздушные занавески, которыми живописцы оттеняют портреты своих прелестниц.
Подле нее сидел человек средних лет, с одним из тех лиц, которые не поражают вас ни телесным безобразием, ни душевной красотою; которые не привлекают вас и не отталкивают. Вас бы не оскорбило встретиться с этим человеком в гостиной; но вы двадцать раз прошли бы мимо, не заметив его, но вы не сказали б ему ни одного сердечного слова, но при нем бы вы побоялись того чувства, которое невольно вырывается из бездны душевной и терзает вас, пока вы не дадите ему тела и образа. Словом, в минуту сильной умственной деятельности вам было бы неловко, беспокойно с этим человеком; в минуту вдохновения – вы бы выкинули его за окошко.
Испуганная валами разъяренной реки, грозным завыванием ветра, красавица невольно то выглядывала в окошко, то робко прижималась к своему товарищу; товарищ утешал ее теми пошлыми словами, которые издавно изобрело холодное малодушие, которые произносятся без уверенности и принимаются без убеждения. Между тем карета быстро приближалась к ярко освещенному дому, где в окнах мелькали тени под веселый ритм бальной музыки.
Вдруг карета остановилась: раздалось протяжное пение; улица осветилась багровым пламенем; несколько человек с факелами; за ними гроб медленно двигался через улицу. Красавица выглянула; сильный порыв ветра отогнул оледенелый покров с мертвеца, и ей показалось, что мертвец приподнял посинелое лицо и посмотрел на нее с той неподвижной улыбкой, которою мертвые насмехаются над живыми. Красавица ахнула и, в беспамятстве, прижалась ко внутренней стенке кареты.
Красавица некогда видала этого молодого человека. Видала! она знала его, знала все изгибы души его, понимала каждое трепетание его сердца, каждое недоговоренное слово, каждую незаметную черту на лице его; она знала, понимала все это, но на ту пору одно из тех людских мнений, которое люди называют вечным, необходимым основанием семейственного счастия и которому приносят в жертву и гений, и добродетель, и сострадание, и здравый смысл, все это на несколько месяцев, – одно из таких мнений поставляло непреоборимую преграду между красавицею и молодым человеком. И красавица покорилась. Покорилась не чувству, – нет, она затоптала святую искру, которая было затеплилась в душе ее, и, падши, поклонилась тому демону, который раздает счастье и славу мира; и демон похвалил ее повиновение, дал ей «хорошую партию» и назвал ее расчетливость – добродетелью, ее подобострастие – благоразумием, ее оптический обман – влечением сердца; и красавица едва не гордилась его похвалою.
Но в любви юноши соединялось все святое и прекрасное человека; ее роскошным огнем жила жизнь его, как блестящий, благоухающий алоэс под опалою солнца; юноше были родными те минуты, когда над мыслию проходит дыхание бурно; те минуты, в которые живут века; когда ангелы присутствуют таинству души человеческой и таинственные зародыши будущих поколений со страхом внимают решению судьбы своей.
Да! много будущего было в этой мысли, в этом чувстве. Но им ли оковать ленивое сердце светской красавицы, беспрерывно охлаждаемое расчетами приличий? Им ли пленить ум, беспрестанно сводимый с толку теми судьями общего мнения, которые постигли искусство судить о других по себе, о чувстве по расчету, о мысли по тому, что им случилось видеть на свете, о поэзии по чистой прибыли, о вере по политике, о будущем по прошедшему?
И все было презрено; и бескорыстная любовь юноши, и силы, которые она оживляла… Красавица назвала свою любовь порывом воображения, мучительное терзание юноши – преходящею болезнью ума, мольбу его взоров – модною поэтическою причудою. Все было презрено, все было забыто. Красавица провела его через все мытарства оскорбленной любви, оскорбленной надежды, оскорбленного самолюбия…
Что я рассказал долгими речами, то в одно мгновение пролетело через сердце красавицы при виде мертвого: ужасною показалась ей смерть юноши, – не смерть тела, нет! черты искаженного лица рассказывали страшную повесть о другой смерти. Кто знает, что сталось с юношей, когда, сжатые холодом страдания, порвались струны на гармоническом орудии души его; когда изнемог он, замученный недоговоренною жизнию; когда истощилась душа на тщетное борение и, униженная, но не убежденная, с хохотом отвергла даже сомнение, – последнюю, святую искру души – умирающей. Может быть, она вызвала из ада все изобретения разврата; может быть, постигла сладость коварства, негу мщения, выгоды явной, бесстыдной подлости; может быть, сильный юноша, распаливши сердце свое молитвою, проклял все доброе в жизни! Может быть, вся та деятельность, которая была предназначена на святой подвиг жизни, углубилась в науку порока, исчерпала ее мудрость с тою же силой, с которою она некогда исчерпала бы науку добра; может быть, та деятельность, которая должна была помирить гордость познания с смирением веры, слила горькое, удушающее раскаяние с самою минутою преступления…
Карета остановилась. Бледная, трепещущая красавица едва могла идти по мраморным ступеням, хотя насмешки мужа и возбуждали ее ослабевшие силы. – Вот она вошла; она танцует; но кровь поднимается в ее голову; деревянная рука, которая увлекает ее за танцующими, напоминает ей ту пламенную руку, которая судорожно сжималась, прикасаясь до ее руки; бессмысленный грохот бальной музыки отзывается ей той мольбою, которая вырывалась из души страстного юноши.
Между толпами бродят разные лица; под веселый напев контрданса свиваются и развиваются тысячи интриг и сетей; толпы подобострастных аэролитов вертятся вокруг однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертве; здесь послышалось незначущее слово, привязанное к глубокому, долголетнему плану; там улыбка презрения скатилась с великолепного лица и оледенила какой-то умоляющий взор; здесь тихо ползут темные грехи и торжественная подлость гордо носит на себе печать отвержения…