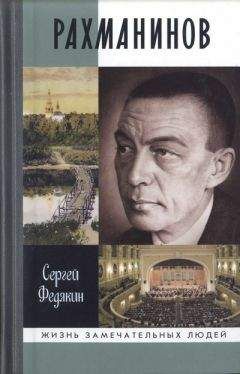Сергей Болотников - Тролльхеттен
Николай даже приостановился, зябко передернул плечами в утреннем сумраке. Когда он последний раз видел солнце? Давно, не вылезали совсем из пещер, вон, бледные все, как покойники.
А вот птицы взлетают одна за другой в ослепительно-голубое с несколькими точеными облачками небо. Хлопают крылья, и Стрый, тогда еще Жека Шустрый, довольно хлопает в ладоши — совершенно детский жест, а ведь они уже не дети. Они взрослые. Стрыя надо окоротить, вернуть ему серьезность, а то ведь не солидно. И Николай ловит одного голубя и говорит: «Эй, Шустрый!» Стрый оборачивается, и улыбка его гаснет. Он понимает, что собирается делать его друг. Понимает и пугается. Трус, Стрый, трус, и всегда таким был. Птица бьется в руке, но только первое мгновение — ее шея слишком тонка и хрупка, так что даже детская рука может переломать в ней все кости. Что Николай и делает, и даже слышит глухой щелчок, словно сломалась сухая ветка. Он улыбается. А Стрый не улыбается, он плачет, ему обидно и жалко голубя одновременно. «Злой ты, Колька, — говорит будущий напарник. — Злой, как Пиночет». И уходит в слезах, а Николай Васютко остается с мертвым голубем в руках. Тут и сосед прибежал и попытался поймать Стрыя, а Николай слез с голубятни и криками отвлек внимание на себя. Потом они бежали огородами, тут же помирившись.
Да, так оно и было. Легкая улыбка тронула губы Николая, взгляд невидяще смотрел вдоль мрачной замусоренной улицы. Рядом шагал Босх — лицо каменного истукана и глаза такие же, глянет — раздавит. И Кобольд, мерзкий чернявый коротышка — шакал двуногий.
«Что я здесь делаю!» — вдруг подумал Васютко, пред внутренним взором которого все еще стояла картинка того теплого, сгинувшего много лет назад дня. Тогда все было так хорошо, так просто и ясно, и не было этой липкой трясины, собачьей жизни, что привела его и Стрыя в ряды этой крошечной апокалиптичной армии, идущей убивать других людей. Убивать потому, что так сказал человек в плаще. Человек, который, как все яснее становилось Николаю, скорее всего вовсе и не был человеком. А Стрый идет впереди в качестве живого щита — Босх не привык ценить людей. Ему наплевать на чужие жизни, пусть это даже жизни близких ему людей. Ничего не скажешь, знал Плащевик, кого набирать в свою команду.
Николай ускорил шаг, обогнал Босха и Кобольда и стал шагать подле Стрыя. Тот полуобернулся к нему и, как показалось, глянул благодарно.
А эти шли сзади — люди, сплоченные Исходом, люди с исковерканной психикой и неясными идеалами. И все равно, люди-кремни. Почему они стали казаться ему столь омерзительными.
Следующая мысль была простой и ясной: «Нас что, всех послали на смерть?!» Он не знал, почему это пришло в голову, но тяжкое осознание того, что это правда, упорно не оставляло его. Он на секунду замедлил шаг, и в голове мелькнула следующая мысль: «Я что, прозрел?»
Он посмотрел на Стрыя, да, тот тоже ощущал нечто подобное. И Николай Васютко по прозвищу Пиночет, которому оставалось жить двадцать две минуты и сорок секунд, нервно втянул в себя холодный, пахнущий зимой воздух и стремительно подбил итоги своей подходящей к концу жизни.
Неподалеку Рябов стал хрипло орать какой-то кошмарный боевой марш. Ствол его пулемета выписывал в воздухе сложные фигуры.
Босх и компания приближались к школьному микрорайону по Верхнемоложской улице, не подозревая, что чуть более многочисленная группа их потенциальных жертв движется параллельно им по Последнему пути, название которого на глазах обретало зловещий смысл.
И, в отличие от своих убийц, группа Дивера сейчас была настроена лишь на спокойный отдых после ловли «Сааба». Евлампий Хоноров натягивал свою цепь, губы его отвисали в угрюмом оскале, мутные слюни текли по подбородку — как у служебного ротвейлера, взявшего след.
— Вы хорошо видите? — спросил Евлампий у Кобольда.
Тот моргнул, ответил слегка растерянно:
— Ну да…
— Это хорошо, — сказал Хоноров и звучно сглотнул слюну. — Оно любит, когда хорошо видят. Почему-то ему нравятся глаза, не страдающие близорукостью. Но и слепых оно тоже ест. Все же лучше, чем ничего, правда? — и он хохотнул добродушно, словно находился в хорошей компании и только что рассказал веселый анекдот, приведший аудиторию в экстаз.
— Заткни его! — приказал Босх спокойно.
До места, где двум отрядам было суждено столкнуться, оставалось совсем немножко — два пустых, ледяных, продуваемых всеми ветрами кварталов. Скрюченная чьим-то автонаездом водяная колонка на перекрестке улицы Стачникова и Последнего пути была как проржавевшая веха на стезе тринадцати идущих к ней людей. Тринадцать — несчастливое число, и кто знает, как бы развивалось все дальше, если бы их на краткий миг не стало четырнадцать.
3
Страшные сны, замучили Никиту Трифонова. Собственная кровать перестала казаться ему надежным и спокойным убежищем, напротив, он теперь смотрел на нее, как на липкую черную паутину, только и ждущую, чтобы схватить зазевавшуюся жертву в свои пахнущие пылью объятия. Трифонов стал спать на полу, но легче не стало, ему мнились змеи — разные, длинные и короткие, зеленые, серые, черные, пестрой кислотной расцветки. Спастись от них можно было лишь на кровати. А там, все начиналось сначала.
Мать ушла и больше не вернулась. Он провел много времени, выговаривая себе, что с ней все в порядке, просто она устала и слишком испугалась. Просто ушла из города, оставив его Никиту. Это не так уж плохо, он ее ни в коем случае не винил, главное, чтобы с ней самой было все в порядке.
А правда нахально пряталась в голове, скрываясь до времени за ширмой лживых самоуспокоений, а потом в самый темный и сумрачный час (а их, к сожалению, становилось все больше и больше) выползала на свет во всей своей ужасающей красе. Мать не просто ушла, — говорила она, эта похожая на изумрудную змею правда, — она Изошла, и ты это прекрасно знаешь. И еще ты знаешь, что Исход — не то же самое, что просто исход, или побег.
То, что матери больше нет, он понял, лишь заглянув с утра в ее комнату — пустую, чисто выбеленную комнату с пылью по углам. Исчезла вся мебель, цветастые занавески с окон, ее любимая ваза, которая, впрочем, уже почти два года обходилась без цветов. И даже пятно канцелярского клея, который она разлила подле окна много лет назад, и которое не стиралось никаким порошком, и то пропало, наглядно демонстрируя прописную истину: Исход — лучший растворитель. Это Никита и так знал. Исходящие не оставляли за спиной ничего, с маниакальной скрупулезностью сжигая за собой все до единого мосты. Вернее, за них это делала мрачная, оккупировавшая сила, та, что пришла снизу.
Сколько Никита стоял на пороге пустой комнаты, прежде чем до него через боль от потери докатилась очередная горькая истина? Он не знал, да и не хотел знать.
Никита Трифонов остался совсем один в этом холодном неуютном мире. Только он, город, и шумные соседи сверху. Но к ним он пойти боялся, мать учила не доверяться посторонним. Впрочем, сегодня все изменилось.
Он ничего не ел третий день, и от этого в теле возникали странные ощущения, какая-то воздушная легкость. Соображалось с трудом. Сны становились все ярче, и начинало казаться, что скоро они станут ярче яви, и что тогда случится, Никита не знал, но все равно боялся этого.
Кое-какие сновидения умудрились все же прорваться сюда. Те же змеи, или темная тварь, что прилетает каждую ночь и тихонько стучит матовым клювом в оконное стекло. Мол, ничего, подожди, придет время, эта непрочная преграда рухнет, я доберусь до тебя. И ты Изойдешь.
Никита представил комнату после своего Исхода (пустота, пыль) и заплакал. Он боялся ворон, как и маленький Дмитрий Пономаренко.
Вот и сейчас какая-то птица кружила лениво над двором. Огромная, покрытая блестящими синими перьями с круглыми, синеватыми же глазами. Она была не похожа на ту, темную, когтистую. Она была доброй, пришла из доброго сна. Где-то Никита ее видел, где-то про нее слышал. Птица перестала наматывать круги и зависла перед самым окном Трифонова. Теперь он узнал ее и робко улыбнулся. Еще бы, ведь к нему пришла Птица Счастья. Синяя птица, похожая на изящных пропорций голубя. Она нежно и успокаивающе ворковала, лениво взмахивала широченными, похожими на махровые полотенца крыльями.
— Что ты хочешь? — спросил Никита.
Птица клекотнула, а потом в два мощных взмаха взлетела на этаж выше. Никита выскочил на балкон, свесился через него, глядя наверх, и успел заметить, как Птица Счастья влетает в окно соседей сверху. Тех там сейчас не было, Никита слышал, как они выходили. «Вот не повезло людям. К ним прилетала птица счастья, а их не было дома!» — подумал Трифонов, а следом за этой мыслью явилась другая: «Надо пойти к ним и рассказать!»
Эта мысль была уже не просто мыслью — она вполне смахивала на цель. А цель, как известно, это ни что иное, как тот гибкий стальной стержень, который поддерживает существование каждого человека. Если хотите, это что-то вроде скелета духа, который, подобно скелету телесному поддерживает мышление и сознание, спасая его от распада.