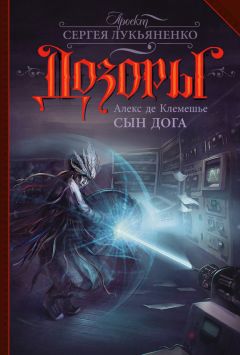Алекс де Клемешье - Сын Дога
– Раз тридцать, – подтвердил Денисов.
– Вот! Стало быть, должон помнить там такой антиресный момент – сидит Фурманов и картоху чистит, а Чапай начинат объяснять на яблоках и папиросках, где надлежит быть командиру на лихом коне. Помнишь ли?
– Конечно, помню!
– И вот говорю я своей ненаглядной – мол, чуток я в кинофильм-то не попал! Она мне – как так? Я – а вот так! Картоху на столе видишь? Видит она, чай, не слепая. Я спрашиваю – а знашь ли ты, что енту картоху я Фурманову лично принес, как был я в тот момент ответственным за обеспечение штаба съестными припасами? А что он меня в книжке-то не прописал – так енто чистая случайность и недоразумение. Я же рядом там стоял! Прописал бы Фурманов меня в книжке – я бы и в фильм попал. Уххх, как она меня поносить принялась! И брехуном, и придумщиком, и клеветчиком. Меня! Героя, кавалериста чапаевского дивизиона – брехуном!
Денисов уронил руки на планшет, поверх рук уронил голову, плечи его затряслись.
– Вот я гляжу, – после паузы с сочувствием проговорил старик Агафонов, – что тебе, Феденька, тоже такая несправедливость обидна, хучь ты и не сродственник мне. А потому что душа в тебе большая и обширная. Ты того, Федь… Ты не плачь!
Плечи участкового затряслись еще сильнее.
– Холера! – взвыл Евлампий Емельяныч. – Ты, котора на печке окопалась! Ты только глянь, до какого состояния ты нашу власть довела, котора уважаемый всеми человек Федор! Нет, я такого унижения не стерплю! Ить сердца не хватат перед людями позориться, как ты меня вынуждашь! Сегодня чтобы ноги тут твоей не было! Понимашь, аль тупо?
Федор Кузьмич, просмеявшись, поднял голову, кулаком вытер слезы, встал со стула и, все еще судорожно, навзрыд всхлипывая, дошел до двери – проверить, плотно ли закрыта. Вернулся на прежнее место, пошевелил беззвучно губами, крякнул раздумчиво.
– А теперь, дед, давай поговорим без протокола, – серьезно сказал он, демонстративно закрывая планшет. – Рассказывай, что стряслось.
Старик Агафонов искоса, с явным испугом глянул на участкового, но тут же вытянул тонкую шею, выпятил впалую грудь.
– Вот что я тебе сказал – то и стряслось! Ни слова ни добавить, ни убавить! Отселяй немедля – и все тут!
И Евлампий Емельяныч так сильно стукнул по нарядной скатерке сухим своим кулачком, что в дверце трюмо тоненько задребезжало стекло. Трогательна была эта тощая, сухая стариковская рука, а ведь когда-то и впрямь держала шашку. Все в селе, да, пожалуй, и в области знали, что ветеран партии Агафонов действительно сражался в Гражданскую под началом комдива Красной армии Чапаева. Может, про картошку-то дед и придумал, но с легендарным Чапаем, с комиссаром 25-й стрелковой дивизии Фурмановым и с порученцем Василия Ивановича Петькой – Петром Исаевым – уж точно был знаком. Денисов помолчал, затем потянулся через стол и накрыл стариковский кулачок большой своей ладонью. Сказал тихонько:
– Куда ж я ее отселю-то, Евлампий Емельяныч? У ней же тут ни подружек не осталось, ни сродственников. Почитай, никого, кроме тебя, у ней нету. На улицу жену свою гонишь, Евлампий Емельяныч!
От большой ладони Денисова, от его тона и особенно от последних слов сжимался старик Агафонов, съеживался, но пока еще сопротивлялся.
– У ней дети, чай, в Кемерове и в Ленинграде. И внуки в Томске и Новосибирске. Пущай к ним едет, – не глядя Федору Кузьмичу в глаза, так же тихонько ответил он.
Пробежался взглядом участковый по комнатке, приметил кое-что.
– Ты же понимаешь, Евлампий Емельяныч, что одним днем такие вопросы не решаются. Переезд – энто ж и сборы, и билеты, да и детей-внуков сперва уведомить надобно.
– А ты ее пока в свой милицейский кабинет определи! – из последних сил огрызнулся старик Агафонов, свирепо шевеля усами. – Пущай оттуда и детей уведомлят, и билеты заказыват!
– Я бы определил, да вот боюсь, что чемодан с ее лекарствами в моем кабинете никак не поместится.
Угадал Денисов. Полилась из глаз старика такая боль, такая тоска, такая неизбывность, что у Федора Кузьмича натуральным образом заныло где-то в сердце.
– Рассказывай, дед, – грубовато хрипнул пожилой милиционер, – от чего ты ее защищаешь?
– Защишшаю?! – встрепенулся Агафонов и уставился на Денисова круглыми диковатыми глазами. – Я – защишшаю?!
– Конечно, – кивнул участковый. – Спасаешь ее от чего-то нехорошего, вот оттого и гонишь. Ты три дня тому по рецептам Владлена Михайловича в райцентре целую гору медикаментов на имя Натальи Федотовны получил. Не помогли, видать, лекарства. И хоть болезнь ее совсем и не заразная, ты что сделал?
– Что? – одними губами переспросил старик, скукоживаясь еще больше.
– Ты ее из горницы выставил, в передней на печке спать заставил. Так? Так. И снова, видать, не помогло. Теперича ты ишшо дальше ее отправить решил. Значит, считаешь, что у внуков она поправится. Где угодно поправится, только не тут. Вот и сочиняешь поводы, навроде солонки и щекотных волос, чтобы на меня, представителя власти, ответственность переложить. Верно? Верно. А чичас говори мне как на духу – что у вас стряслось?
Старик Агафонов помолчал, затем сердито выдернул кулачок из-под ладони участкового, достал из кармана домашних брюк простынных размеров клетчатый носовой платок, длинно высморкался – и уронил от бессилия руки.
– Ну, вот откель ты такой умный, Федюк, а? Ну, вот за что ты мне тут свалилси?! Уж так хорошо я все обдумал, уж так в уме все гладко обустроил! Здравствуйте-пожалуйста, приперси, раскрыл преступлению… Ты ж обоих нас загубишь! Понимашь, аль тупо?!
– Это я понимаю, – согласился Денисов. – Ты мне другое, дед, скажи: ты сам, что ли, помирать собрался? Поэтому ее подальше отправляешь? Или, может, считаешь, что ты и есть причина ее болезни? Может, думаешь, что она от тебя хворь подхватила?
– А ты проверь! – придя немножко в себя, снова осерчал Агафонов. – Высели ее да погляди, что из ентого получится.
– И отселять ее не стану, – отрезал участковый, – и отседова не уйду, покамест ответа от тебя не добьюсь! Так что ты поспеши, Евлампий Емельяныч, с признанием-то, у меня ишшо дел целая прорва.
…Еще две недели назад стал старик Агафонов подмечать, как ночами наваливается на грудь щемящая боль. Ноет, ноет что-то внутри, словно в тиски зажатое, да вроде бы не сердце. Днем расходишься, раздышишься – отпускает, а стоит на перину в передней улечься – снова накатывает. Со смехом признался в том Наталье, да только разве его жена в болезнях что-нибудь понимает? Умней всего придумала к фельдшеру обратиться. Агафонов тогда разнервничался, распереживался, поскольку докторов отродясь не жаловал, особенно молодых, с иностранными словами в каждой фразе. Сказал Наталье, что пойдет, чтобы угомонилась она, а сам, конечно, не пошел.
Два дня минуло – открывает старик посреди ночи глаза, таращится в темноту потолочную и чует, как воздух от его губ отдаляется, отодвигается, отгораживается невидимой стенкой. Все, чем дышишь, туда, к потолку поднялось, будто дым печной. А Агафонов внизу лежит, извивается, ртом темноту хватает, точно осетр, из воды на берег выкинутый. Ни привстать, ни позвать – ну никакой мочи нет! И снова боль накатывает, и снова стягивает грудь бондарным обручем.
И вдруг понимает он, что тут же, в передней, в соседней постели его Наталья, не просыпаясь, так же вдохнуть пытается. Чуть с ума Евлампий Емельяныч не сошел! К утру, правда, и ей, судя по дыханию, полегчало, и сам он тревожным сном забылся. Весь день потом корил себя, что сразу к врачу-то не обратился! Это ж явно от мужа к жене что-то непонятное передалось!
Но Владлен Михайлович, измеривший давление и сквозь специальную трубочку послушавший и легкие, и сердце старика, никаких отклонений не обнаружил.
Тем днем так хорошо им обоим чувствовалось, так просторно дышалось и говорилось, что пронадеялся Агафонов на авось, улегся спать на прежнем месте. И снова ночью – удушье, боль, тоска, а рядом – слабенькие сипы Натальи Федотовны, настолько слабенькие, что от ужаса у него остатки седых волос дыбом встали. А ну как до рассвета ее дыхание совсем утишится?
Чуть не волоком потащил он ее наутро к фельдшеру да настоял, чтобы тот прописал ей побольше таблеток «для самочувствия». Может, все дело было в том, что сам-то старик ходил к Владлену Михайловичу после обеда, а жену свою ранехонько привел, сразу после сна – но у Натальи Федотовны местный доктор и впрямь что-то внутри услышал, нахмурился, еще раз давление смерил, понажимал ей что-то на шее и возле ушей. Лекарств ей, к радости Евлампия Емельяныча, он выписал много.
Ну а дальше Федор Кузьмич все верно угадал. Решив, что хворь, будто клопы, только в передней обосновалась, старик Агафонов надумал сыграть самодура. Поссорился с супругой – да и выставил ее из горницы, чтобы та на печке поспала ночку-другую. Сам только делал вид, что спать ложится: дожидался, пока она свет погасит – и сразу ухом к дверной щели припадал. На первую ночь показалось, что все в порядке. Но, может, только показалось, потому что самого его в какой-то один момент скрутило беспощадно, так и думал, что обязательно помрет сию минуту на холодном полу возле двери в переднюю. Обошлось. А на следующую ночь он снова беспомощные сипы на печке расслышал.