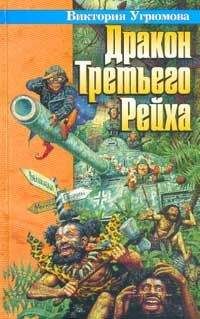Виктория Угрюмова - Белый Паяц
Арбогаст предложил ему помощь, не вдаваясь в объяснения, отчего дюку оказана такая милость. Тот сам придумал причину: ведь может же быть так, что языческие боги недовольны правлением Пантократора и мечтают вернуть себе былую славу и власть. А известно, что богам для этого необходимы люди, ибо потусторонние сражения за небесный престол ничего не значат, если тень их не отброшена на землю.
Хварлингский дюк полагал себя избранным потому, что сам никогда не отступался от древней веры своих предков и, несмотря на опасность разоблачения, приносил щедрые жертвы в красном храме Ингельгейма и Йорейг, спрятанном в глубине холодных Могелонских фьордов.
Именно рыцарь Арбогаст посоветовал Гаю Субейрану сыграть в сложную и опасную многоходовую игру, ставкой в которой, с одной стороны, была голова мятежного хварлинга, а с другой – престол Охриды. Всех сложностей и хитросплетений этой игры не понимал и сам дюк, но одно он знал наверняка – вскоре Медиолана будет охвачена пожаром великой войны из тех, что решают судьбы народов и сметают с лица земли целые страны. И разумнее всего вовремя оказаться на стороне победителя, предложив ему дружбу и нерушимый союз.
Ничего не стоит связать себя словом, внушал вельможе таинственный советчик. Ведь слово не материально, его можно дать, а можно без труда забрать обратно, для чего не требуется дополнительных усилий. И ничего зазорного в этом нет для того, кто собирается создать великую империю, а значит, обязан руководствоваться исключительно высшими интересами. Монархи – не обычные люди, и к ним неприменимы стандартные правила и законы. Главное – помнить, что все новые миры создаются на развалинах старых, отживших свое. И наиважнейшее, что теперь нужно сделать, – вовремя вступить со своей партией, дабы ускорить падение Охриды – этого колосса на глиняных ногах, а после, с помощью великого завоевателя, захватить в ней власть. О том, как избавиться от этого сюзерена, они поговорят после, когда корона охридского королевства будет сверкать на челе Субейрана.
А пока, дабы отвести от себя подозрения Сумеречной канцелярии и Фрагга Монтекассино, необходимо занять их внимание кем-то другим. И зиккенгенские принцы как нельзя лучше подходят на роль ягненка, которым умелый охотник приманивает хищника к западне.
Только об одном постоянно напоминал Арбогаст своему союзнику: как бы смел и решителен тот ни был, но одного человека в Охриде он должен бояться пуще собственной смерти – мавайена ордена гро-вантаров. А на невежливый, в сущности, вопрос Субейрана, как он сам относится к главе рыцарей Эрдабайхе, желтоглазый демон ответил коротко и откровенно:
– Боюсь. Разумеется, боюсь.
* * *Наступил рассвет, но и он не принес облегчения и избавления от кошмаров минувшей ночи. Тьма рассеялась, а ужасы остались, и было совершенно неясно, как теперь жить и как умирать.
Город горел. Каменные города ведь тоже горят, просто надо уметь их поджечь.
От оранжереи валил тяжелый, густой дым, смешанный с запахами цветов, смолы, эфирных масел и ароматной древесины.
Дворцовая площадь почти опустела. На узких улочках гремели слабые отголоски давешнего сражения, но защитников Мараньи почти не осталось, и единственное, что могли сделать одинокие воины, – это как можно дороже продать свою жизнь. Большинство варваров ломились в тяжелые двери храма, из-за которых доносилось нестройное пение, прерываемое приглушенными рыданиями.
Тела убитых и раненых лежали так плотно, что Юберу Де Ламертону пришлось перебираться через них, как через бурелом в лесу.
Комт пребывал в необыкновенном состоянии, когда каждая мелочь видна как под увеличительным стеклом.
Он обратил внимание на маленькое гнездо, прилепившееся на завитушке резной капители, и свесившуюся из него голубовато-серую головку мертвой птицы. Они с птицей были хорошо знакомы в той, мирной, жизни, представляющейся теперь не более чем сном или выдумкой. Он всегда подкармливал ее по утрам, стоя на террасе.
В зеленой мраморной чаше фонтана, в бурой и мутной от крови воде метались испуганные, задыхающиеся золотые рыбки. Их мир тоже пришел к концу.
Пробежал по краю площади прихрамывающий седой мужчина, спасаясь от двух рослых варваров. В правой руке он держал маленькую желтую собачку со смешными черными бровками, а в левой – визжащего пухлого поросенка, завернутого в тряпочку. Он прижимал их к груди, как матери прижимают детей, и несчастные тварюшки льнули к нему, ища защиты, которой он не мог дать ни им, ни себе самому.
Де Ламертон кинулся было на помощь, и один из варваров обернулся на его хриплый безнадежный крик, но второй продолжал гнаться за горожанином. Они завернули за угол дворца, и оттуда послышался жалобный, почти детский вскрик.
Комт, содрогаясь от ужаса и ненависти, подскочил к верзиле в кожаных доспехах и с разбегу вонзил лезвие меча ему в грудь по самую рукоять. В этот момент он не чувствовал ни боли в разбитых ребрах, ни страха, ни сомнений. Его переполняла жалость к старику и невероятный, испепеляющий сердце стыд – он не смог защитить мирок, который с такой любовью строил сам и научил строить других. Эта умирающая любовь и жалость сделали его непобедимым воином. Варвар умер, даже не успев понять, как это произошло.
А Де Ламертон, хромая и спотыкаясь, сплевывая густую красную слюну, заковылял в ту сторону, куда убежал горожанин. Он нашел его там, недалеко от маленького садика, в котором недавно так торжественно высадил красные массилийские пальмы. Старик лежал, распластавшись на пестрой серой брусчатке, закрывая собственным телом обеих зверюшек. Из-под его живота медленно и неумолимо полз похожий на толстую змейку бурый ручеек.
Кто-то жалобно пискнул. Правитель, торопясь, будто это что-то теперь меняло, приподнял немыслимо тяжелое тело и вытащил из-под него сперва бездыханное тельце собачки, а затем дрожащего и слабо брыкающегося поросенка. Свинка уже не могла визжать, но стала так нелепо и трогательно тыкаться розовым, пятачком то в лицо хозяину, то в морду пса, что у комта слезы навернулись на глаза.
Он заплакал впервые за эту бесконечную ночь, и заплакал не над людьми, которые сражались и умирали рядом с ним, а над двумя бессловесными тварями. Поросенок взглянул на него умными темными глазами под седыми ресничками, виновато моргнул и неожиданно прижался к окровавленной ладони Де Ламертона холодным сухим рыльцем. Копыта его мелко дергались. Он тоже боялся умирать в одиночестве, и человек – как ни нелепо и даже кощунственно выглядело его неуместное сострадание после всего, что ему пришлось увидеть сегодня, – не смог отказать ему в этой милости. Качаясь от слабости и утирая тыльной стороной ладони пот и кровь, заливающие правый глаз, он терпеливо сидел возле этих троих, пока они – человек, его собака и свиненок – не встретились там, за гранью.