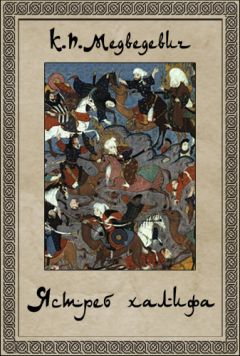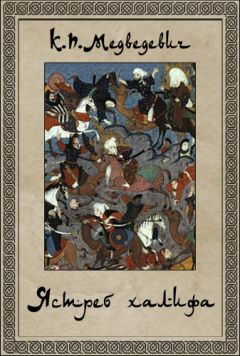Майкл Суэнвик - Танцы с медведями
Нигде ни малейшего признака жизни. Если один из обитавших в окрестной пустыне одичавших верблюдов забредал в пределы их досягаемости, его убивали. Если вырастал цветок, его вырывали с корнем. Такова ненависть, питаемая злым отпрыском человеческой глупости ко всему природному. Однако некоторым животным они сохраняют жизнь и путем искусных хирургических операций сращивают их с хитроумными механизмами собственного изобретения, дабы иметь возможность посылать разведчиков в большой мир с неизвестными нам целями. Если животное умирает не в силах справиться с подобной мерзостью, оно все равно функционирует, управляемое встроенной машинерией. Существо, от которого вы меня спасли, являлось именно такой комбинацией волка и машины.
Беседуя, они ехали обратно по тому маршруту, по которому караван пришел изначально. Через пару миль дорога пересекла полосу голых камней и песка, и Гулагский произнес:
— Вот и поворот.
— Но он узкий. Прямо козья тропка! — воскликнул Довесок.
— Так вам и полагалось подумать. Времена дурные, господа, и горожане старательно замаскировали перекресток, чтобы сохранить наше местоположение в тайне. Если мы проедем приблизительно полмили, то попадем на другую, заметную дорогу.
— Мне уже не слишком обидно, — пробормотал Даргер, — что пропустил ее раньше.
Меньше чем через час новая дорога нырнула в темный лесок. А преодолев его, путники действительно оказались неподалеку от городка Гулагского. Взорам их предстало опрятное поселение, лепившееся на вершине пологого холма. На фоне заката чернели печные трубы и коньки крыш, а в окошках домов желтели огоньки свечей. Если бы не крепкая — армейского образца — стена из колючих кустов и не вооруженные стражники, бдительно наблюдавшие с башни над толстыми воротами, это было бы самое уютное местечко, какое только можно вообразить.
Даргер признательно вздохнул:
— Я буду рад поспать на нормальном матрасе.
— Путешественники редко забредают в мой город, поэтому и гостиниц, где бы они могли остановиться, нет. Однако не бойтесь. Вы остановитесь в моем жилище! — заявил Гулагский. — Я уступлю вам собственную постель, щедро устланную одеялами, подушками и пуховыми валиками. Сам я посплю внизу, в комнате сына, а он — на кухонном полу…
Даргер смущенно кашлянул в кулак.
— Видите ли… — начал Довесок. — К сожалению, это невозможно. Нам требуется целое отдельное здание для посольства. Гостиница была бы лучше, но и частный дом сгодится, если в нем будут просторные комнаты. Кроме того, его нельзя делить ни с кем посторонним. Даже со слугами. Владельцы даже не обсуждаются. Так что — без вариантов.
Гулагский вытаращился на них. От удивления у него отвисла челюсть.
— Вы отвергаете мое гостеприимство?!
— У нас нет выбора, — признался Даргер. — Понимаете, мы направляемся в Московию и везем особо ценный подарок князю — сокровище столь редкое и дивное, что и могучего властителя сей дар не оставит равнодушным. Столь необычайны Жемчужины Византии, что лишь взгляд на них возбудит алчность даже в самых праведных людях. Потому — и мне очень жаль — мы должны избегать любопытных взоров. Просто для предотвращения раздора.
— Вы полагаете, я стану красть у людей, которые спасли мне жизнь?!
— Это сложно объяснить.
— Хотя… — встрял Довесок, — примите наши самые искренние извинения, но, увы, мы вынуждены настаивать.
Гулагский покраснел, хотя неясно было, от гнева или от унижения. Мрачно потирая бороду, он проворчал:
— Никогда еще меня так не оскорбляли. Видит Бог, никогда. Быть вышвырнутым из собственного дома! Ни от кого другого я бы этого не потерпел.
— Тогда договорились, — примирительно сказал Даргер. — Вы поистине щедрый человек, друг мой.
— Благодарим вас, сударь, за понимание, — твердо подытожил Довесок.
В городке зазвонили колокола.
2
Аркадий Иванович Гулагский был пьян стихами. Он лежал навзничь на крыше отцовского дома и распевал:
«Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури…»[2]
Что было технически неверно. Низкое и темное небо рассекала тонкая и яркая линия заката, зажатого между землей и облаками на западе. Вдобавок ветра дули по-осеннему холодные, а он не удосужился надеть куртку, прежде чем вылезти через слуховое окно на крышу. Но Аркадия ничего не волновало. В одной руке у него покоилась бутылка Пушкина, а в другой — жидкая антология мировой поэзии. Хранились они в отцовском винном погребе, который представлял собой запертое помещение в подвале, но Аркадий вырос в этом доме и знал все его секреты. От него ничего нельзя было скрыть. Аркадий проскользнул через окошко в подвал, а затем обнаружил среди балок широкую свободную доску, которая сдвигалась на добрый локоть, быстро просочился внутрь и, пошарив в темноте, ухватил две бутылки наугад. И ему повезло: об этом свидетельствовало то, что в первой емкости оказался чистейший Пушкин! Правда, решение пить его одновременно с плохо составленным сборником иностранных виршей и коротких прозаических отрывков в бездарных переводах говорило о крайней незрелости похитителя.
В церквях городка начали звонить колокола. Аркадий улыбнулся.
— «Вновь потухнут, вновь блестят, — прошептал он. — И роняют светлый взгляд… На грядущее, где дремлет, — он рыгнул, — безмятежность нежных снов». Да кончится это когда-нибудь? «Возвещаемых согласьем золотых колоколов».[3] Интересно, с чего все всполошились?
Аркадий не без труда принял сидячее положение, в процессе выпустив из рук бутылку. Пушкин, подпрыгивая, покатился вниз по крыше, разбрызгивая жидкую поэзию, и разбился во дворе внизу. Молодой человек нахмурился ему вслед, поднес другую початую бутылку к губам и выпил ее до дна.
— Думай! — сурово приказал он себе. — Почему звонят в колокола? Свадьбы, похороны, церковные службы, войны. Сейчас ничто не подходит, а то бы я знал. Также, чтобы приветствовать возвращение блудного сына, путешественника, героя из его странствий… О, черт.
Он неуклюже поднялся на ноги.
— Отец!
Немощеная площадь была запружена народом, когда Иван Аркадьевич Гулагский въехал в город через ворота в живой изгороди в сопровождении трех ярко раскрашенных фургонов. Гулагского сопровождали два незнакомца на конях, причем один из всадников волок на веревке побитые останки киберволка. Гулагский держал спину прямо и широко улыбался, махая рукой всем и каждому. Аркадий восхищенно жмурился позади толпы. Старый хвастун умел пустить пыль в глаза — таланта у него не отнять.