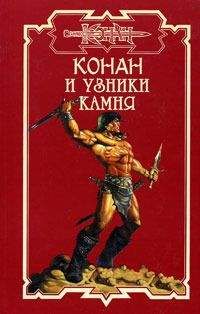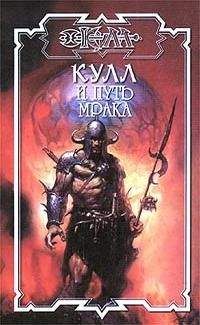Роберт Говард - Честь корабля
Очнулся я на своем табурете. Меня поддерживал секундант, а рядом стоял Барлоу.
— Стив, я останавливаю бой, — сказал он. — Ты спекся.
— Дай щепотку нюхательной соли, — задыхаясь, попросил я. — Я еще не спекся. Не останавливай бой, Джим Барлоу.
Я понюхал соль, и в голове просветлело. На виске у Брэнда я заметил кровоточащую рану — стало быть, его все-таки достал один из моих отчаянных хуков правой. Брэнд был крепок, но не настолько, чтобы легко переносить мои удары, когда они достигали цели. Эх, будь у меня целы обе руки! Неужели я выдержал всю эту пытку напрасно? Неужели я вырубил Ногая и Ладо лишь ради того, чтобы проиграть этому лимончику? И выходит, Старик все-таки потеряет «Морячку»? От этих мыслей я пришел в бешенство. Зарычав диким зверем, я вслепую смел моего секунданта и, шатаясь, поднялся с табурета. Прозвучал гонг, и Брэнд двинулся ко мне.
Я устремился к нему по прямой. Меня обуревала и едва не валила с ног знаменитая ирландская ярость. Брэнд встретил меня прямым левой; я ощутил, как согнулась его рука, когда я налетел на нее, и по запястье утопил правую в его брюхе. Он крякнул и пошатнулся. Я продолжал наседать, работая правой, как отбойным молотком. Держу пари, что публике в этом зале еще никогда не доводилось видеть такое «воскрешение». Брэнд сопротивлялся изо всех сил, но их не хватало. От его ударов я шатался, как пьяный, и на ринг брызгала кровь, но остановить меня было уже невозможно. Я наседал без малейшей передышки и бил, бил, бил! Те, кто видел этот бой, говорили, что я дрался, как загнанный в угол черт. Еще бы, ведь я сражался ради Старика и «Морячки»!
Я погнал Билла Брэнда, как волна гонит щепку. При каждом моем ударе по корпусу рука тонула по запястье, а каждый удар по голове пускал ему кровь. Теперь его физиономия была под стать моей, он тоже задыхался и шатался. Билл уже не надеялся исправить ситуацию с помощью кулаков. Он просто махал руками изо всех сил, чтобы не подпустить меня ближе.
Но я был неодолим. По сути, я дрался в обмороке, ринг плыл в красной пелене. Передо мной маячило лицо Билла Брэнда, бледное, с гримасой отчаяния и потеками крови. А мною всецело овладело желание сократить дистанцию и бить, бить, бить!
Я даже не слышал исступленных воплей толпы, но чувствовал, как слабели удары Билла. Он уже кренился, барахтался, шел ко дну. И тогда я вложил мои убывающие силы в одну серию яростных ударов и почувствовал, как он обмяк; я ощутил отдачу моего «убойного» в челюсть и увидел, как он повалился, точно куль с опилками. После этого я откинулся на канаты и старался не упасть, пока Джим Барлоу вел отсчет.
Говорят, я выбрался с ринга сам. Не знаю, как мне это удалось. Помню только, как ревела обезумевшая толпа, как меня хлопали по плечам, как жали мне руку, — короче говоря, публика осталась удовлетворена. Потом я сидел за столом в раздевалке, и мне вправляли руку, заштопывали ухо и рассаженный висок, смазывали коллодием многочисленные ссадины.
— Ай да бой! Ай да бой! — кудахтал Барлоу. — Надо же, ты победил со сломанной лапой…
— Где монеты? — кое-как пошевелил я разбитыми губами. — Где моя тысяча? А ну, гони живо.
Билл вложил пачку денег в мою руку, и я попытался пересчитать.
— Бога ради, Стив! — изумился Билл. — Я никогда не видел, чтобы тебя так волновали деньги… хоть ты и дрался за них насмерть.
— Это не мои деньги, — пробормотал я, все еще приходя в себя. — Моего приятеля. Мне пора идти, а то вдруг его хозяева решат забрать корабль сегодня ночью.
Все посмотрели на меня так, будто я наклюкался вдрызг или даже свихнулся, но помогли мне одеться, и я вышел на улицу вместе с Майком. Прохладный ночной воздух прочистил мне мозги, но все же я представлял собой жалкое зрелище: рука на перевязи, один глаз закрыт полностью, другой — наполовину, и вся физиономия облеплена пластырями.
Надеясь встретить Старика в забегаловке Теренса Мэрфи за игрой в пинокль, я направился прямо туда — и верно! Старик резался в карты с Теренсом. В заведении, кроме них, не было ни души по причине позднего часа. Мне сразу бросилось в глаза, каким тяжким грузом легли на Старика его годы.
— Да, — говорил он Теренсу, — завтра у меня отнимут милую лоханку. Теренс, я старик, хотя до сих пор этого не замечал. Я совсем на мели. Эта шхуна была для меня и женой, и дочерью…
Он огляделся, увидел меня и приуныл еще больше.
— Ага, Стив Костиган. Никак опять ввязался в позорную уличную драку? Разве я не просил оставить меня в покое? Сделай одолжение, убирайся отсюда…
Я без единого слова протянул ему пачку денег. Я не мастак говорить высокопарные речи.
— Что это? — опешил он.
— Тысяча долларов, которую вы задолжали компании, — ответил я. — Можете заплатить, и у вас не отнимут «Морячку».
— Но я не могу их взять… — пролепетал он.
— Нет, возьмешь! — рявкнул я. — Я уложил трех крутейших азиатских мордоворотов не для того, чтобы ты придерживался этикета. Бери! — И я сунул деньги ему в лапу.
Старик замер на месте, меняясь в лице как хамелеон. Первый раз в жизни я увидел его онемевшим. Наконец он промолвил:
— Стив, я… даже не знаю, что и сказать… Кажусь себе вонючим скунсом. Не могу выразить, как много это значит для меня… Ей-богу, я верну эти деньги до последнего цента. Стив, я часто бывал невежлив с тобой, но ты ведь понимаешь, это было не всерьез. Под твоей слоновьей шкурой прячутся душа и сердце настоящего мужчины…
— Ладно, чего там, — перебил я, испытывая крайнее смущение. — Не благодарите меня. Просто мне бы не хотелось увидеть, как вы потеряете «Морячку». Да и жалко старую посудину — потонет ведь, если капитаном на ней будет человек с мозгами вместо пробки.
— Не смей оскорблять меня, бабуин ты эдакий, — проворчал Старик, но глаза его снова помолодели, а на губах появилась улыбка.
ЧЕСТЬ КОРАБЛЯ (перевод с англ. А. Юрчука)
Джон Закария Граймс впервые окрысился на меня в кубрике «Морячки», в тот же день, когда мы покинули Фриско. Он был салага и нанялся на судно перед самым отплытием. Вообще-то я не обижаю салаг, если только не возникает необходимость показать им, кто «вожак» на нашей шхуне, и даже в таких случаях я скор на расправу, но милосерден, насколько это возможно. Граймс помалкивал, работал споро и не обижался на подначки бывалых матросов. Это был долговязый сухопарый горец из штата Кентукки. Не знаю, как этот горец превратился в моряка, но факт остается фактом.
Ссору начал Олаф Эриксон. Он подшучивал над Граймсом в своей дубовой скандинавской манере, но тот предпочитал не обращать внимания, и это злило Эриксона. Вскоре Олаф отпустил довольно грубую шуточку о неотесанных горцах, и тогда Граймс впервые обернулся и посмотрел на него в упор. Внешне он не дрогнул, но что-то в нем определенно изменилось. В кубрике вдруг воцарилась тишина. Улыбка слиняла с лица Олафа, он покраснел и выпучил зенки.