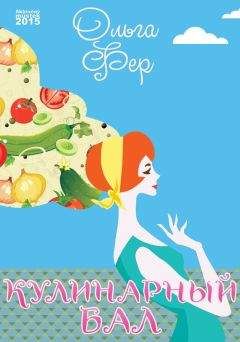Екатерина Казакова - Наследники Скорби
Тьфу ты, пропасть!
Донатос стряхнул с себя девку.
— Убил бы. Да потом ведь ночами являться замучаешь, — устало сказал он.
Блаженная улыбнулась, и в этой улыбке промелькнуло лукавство:
— Не убьешь, свет мой ясный, не убьешь. Ведь, кроме меня, и сердце сорвать не на ком. А на дуру гаркнешь — и душа успокаивается, верно?
Он застыл, с удивлением глядя в разноцветные глаза. Они смотрели без прежнего безумия. Будто пелена спала.
— Что?
— Ой, родненький, отряхнись, отряхнись, застудишься, — закудахтала дурочка. — Не ушибся, хороший мой? В снегу весь!
И снова глядели на него переливчатые глупые очи, и не было в них и тени разума.
* * *Как ни хотелось Лесане отправиться в путь раньше, все одно — ничего не вышло. Короткие заморозки, установившиеся за дождями, не сразу сковали землю до такой поры, чтобы ехать. Да и Тамир был еще очень слаб. Пришлось ждать, когда слякотно-снежные предзимки перейдут в крепкие морозы.
А потом повалил снег. За несколько дней намело такие знатные сугробы, что стало ясно — можно выдвигаться. Собрались за вечер.
Накануне обережница заглянула в клеть к узнику.
— С утра тронемся. Идем, в баню сведу.
Он с удовольствием поднялся. Выходить на волю ему случалось всего-то дважды в сутки, да и то недалеко — всего лишь до отхожего места. А тут целый поход — в баню.
Пока он мылся, Лесана сидела в предбаннике, терпеливо ожидая, и размышляла. Вроде бы, когда говорит Лют — человек человеком. И не подумаешь, что опасаться надо. Крепкий ладный парень. Хромой вот только… Но спуску давать нельзя. Зверь, который живет в нем напополам с человеком, не примет слабости и жалости — сожрет одним махом.
Да и впрямь, кто для него люди? Еда. И не более того. И даже пусть он теперь сытый, пусть не бесится, запах человеческой крови дурманит и лишает ума. И ничего с этим поделать нельзя. Нельзя приручить хищника, который привык питаться теми, кто вознамерился сделать из него ручного зверя. Нельзя довериться тому, кто в один миг увидит в тебе не друга и даже не врага, а трапезу. Вожделенную трапезу…
— Что задумалась? — Хлопнула дверь — это Лют вышел в предбанник.
В темноте волколака почти не было видно. Но Лесана и в этом полумраке различила белые рубцы застарелых шрамов по телу.
— Почему хромаешь? — спросила девушка.
— А, — махнул оборотень рукой, — псина цапнула, сухожилие порвала. Это до смерти теперь.
Он натянул свежую рубаху, взятую Лесаной из неруновых запасов.
— Так о чем думаешь, Охотница? Можно я посижу рядом?
Девушка подвинулась, и собеседник опустился на скамью.
— Я думаю о том, что вроде ты человек. А жрешь людей. Значит, все одно — зверина. Но ведь ходишь, говоришь, даже любишь, небось, кого-то?
Его глаза блеснули в темноте зеленью:
— Да ты, как я погляжу, тоже вроде бы человек. Тоже, поди, кого-то любишь. А всю Стаю надысь перебила — и не дрогнула.
Собеседница пожала плечами:
— Вы пришли сюда кормиться. Я не должна вас привечать.
— Не должна, — согласился он. — Ну так и я не должен ничего. Волки бывают всякие, Охотница. Одни кровожадны и глумливы. Другие за всю жизнь человека не пробуют. Не хотят. Иные без нужды не лезут, но, буде случится, жалеть не станут.
— Как ты? — повернулась обережница.
— Да, — кивнул он. — Мы все разные, Лесана. Как и вы. Вы же убиваете нас. Шкур
и
те. Вытапливаете сало. Употребляете потроха для л
е
карства. Так чем вы лучше?
— Одевайся, — буркнула девушка, которой отчего-то не понравилось, что пленник назвал ее по имени и выставил все так, будто бы она — тоже живодерка, каких поискать.
— Позволь отдохнуть, — попросил он. — Я так давно не мылся. Хорошо…
— Завтра, — сказала обережница, — ты перекинешься волком. И всю дорогу будешь ехать так в санях.
— Спасибо, — ответил он.
— Если вздумаешь…
— Не вздумаю. От тебя, как и от меня, жалости не дождешься. Это я уже понял.
— Выходи.
Лют вздохнул, оделся и вышел, подталкиваемый в спину, на хрустящий мороз. Возле бани пленник замер и посмотрел на небо. В прорехе снежных туч виднелась луна. Она грустно взирала с небес вниз. Словно, почувствовав ее тоску и одиночество, а оттого острее переживая свои собственные, мужчина запрокинул голову и завыл. Это был протяжный раскатистый нечеловеческий вой, полный тоски и силы.
— Ах ты, стервец! — Лесана хотела было отвесить ему затрещину, но волколак увернулся.
И уже через миг чаща отозвалась ответным протяжным: "Уо-у-у-у…"
Пленник миролюбиво улыбнулся:
— Не сердись, Охотница. Я не убегаю.
— Зачем ты выл? — наступала на него девушка. — Ну?
— Чтобы она знала, что я жив.
— Кто "она"?
— Мара.
— Зачем?
— Чтобы ждала.
— Не дождется. — Лесана смотрела сердито.
— Ты не запрещала выть.
— Теперь запрещаю.
— Я понял.
— Завтра, по моему приказу, — перекинешься. И сидеть будешь тише воды.
— Буду. Обещаю.
— Если ты звал Стаю…
— Окстись, — сурово оборвал собеседницу мужчина. — Я не дурак — выводить их на двух колдунов. Как бы сильно Мара меня ни любила, жизнь одного не стоит жизни всей Стаи.
— Хорошо, что ты это понимаешь. Ступай. — Обережница снова толкнула его в плечо, почувствовав, что длинные сырые волосы уже схватились ледком. — Ты не замерз?
Лют оглянулся, и теперь в свете луны его глаза отливали золотом:
— Мы не мерзнем так, как вы.
— Не нравишься ты мне, Лют, — вдруг честно призналась Лесана. — Скользкий ты. Не люблю таких.
— Да? — Он в который уж раз широко улыбнулся. — А вот ты мне понравилась. Упрямая смелая девка. Злая только.
Она в ответ усмехнулась:
— Не видал ты еще, как я злюсь.
— Надеюсь, и не увижу.
И отправился к клети — босиком по хрустящему снегу. Больше они не разговаривали.
Наутро, когда Лесана пришла, пленник уже ждал ее. Во всяком случае, он не спал и, когда открылась дверь, прижал ладони к глазам. Солнце нынче светило такое яркое, что даже Лесане очи выжигало, а уж ему-то…
Девушка закрыла дверь. Подошла к волколаку, перерезала наузы на руках и шее.
— Перекидывайся.
Он съежился на полу, потом привстал на четвереньки, встряхнулся по-собачьи, по телу прошла волна зеленых искр… и через мгновение рядом с обережницей стоял огромный волк, нетерпеливо переступающий с лапы на лапу. В клети сразу стало тесно.
— Подойди.
Он фыркнул, будто усмехнулся, но все же подступил.
— Какой послушный… Морду давай.