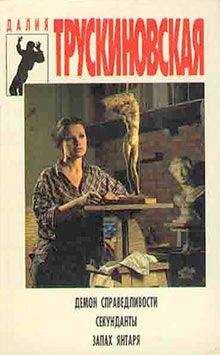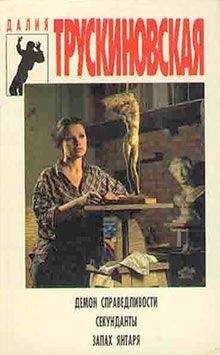Далия Трускиновская - Несусветный эскадрон
– Апостолы налетели и ускакали, а я кинулся к полковнику – ну как, выступаем? Помилуй, Сергей Петрович, сказал Муравьев, куда выступаем, зачем, для чего? Я ему – не ты ли, Артамон Захарыч, грозился государя истребить? А он мне – мало ли кто чем после шестой бутылки шампанского грозится? Тебе, говорит, саблей помахать охота впереди эскадрона, а мне охота своих людей живыми сохранить! Я за каждого ахтырца перед Господом в ответе. И пошел толковать – и в Петербурге северяне виноваты, что выступили четырнадцатого декабря, нам не сказавшись, и план, который Апостолы на ходу сочинили, есть гибельная авантюра… И отказался поднимать полк! Свежих лошадей – и то Апостолам не дал!.. Паризьена!
– Что, мой маленький Серж?
– Помнишь, как нам все безумные планы удавались?.. Там, в курляндских лесах?.. Когда ты пела Марсельезу? Как фуражиров сдуру разгромили – помнишь?
– Конечно, – отвечала я. И не все ли равно сейчас было, что дурость-то проявил он, наш командир, а расхлебывали все вместе?
– И до чего же сурова выдалась та зима – помнишь? А баталию у Валенгофа? У Дален-Кирхи? А как нас вербовали в этот самый, дай Бог памяти… – Сергей внезапно рассмеялся коротким тихим смешком, – В Курляндский вольный казачий корпус? Как брали Митаву – помнишь? А Мемель? И как стояли в аванпостах на острове Нерунге – помнишь, Паризьена?
– Да, да, конечно… Но ты помолчи, мой маленький Серж, а я подумаю.
– О чем? – он попытался приподняться и заглянуть мне в лицо таким любимым движением. Не удалось движение, не хватило сил…
– Как забрать тебя отсюда.
– Не надо меня забирать. Я сам, по своей воле здесь оказался. Не трогай меня, мне сейчас хорошо… Я высказал Артамону Захарычу все, что думаю о таких, как он, героях, и поскакал догонять Апостолов. Сколько раз нам с тобой безумные затеи удавались, а? И когда с рижскими лодочниками в разведку ходили, помнишь? Вот я и подумал – надобно рискнуть! За вольность же!.. Помнишь, как ты пела – к оружию, граждане, смыкайтесь в ряды…
А перед моими глазами встало круглое, честное, наивное лицо полковника Артамона, я встретила спокойный взгляд его больших черных глаз. Это было лицо человека, который вызвал проклятия на свою голову от юных и отчаянных друзей, но спас своих ни в чем не повинных ахтырцев. Ведь он мог повести гусар в Любар, поддержать безнадежный бунт, и несколько дней праздновать торжество обреченной свободы, а потом метаться вместе с черниговцами (хотели идти на Москву – оказались в Мотовиловке…) меж городишек, выписав своим путем превеликую восьмерку, и положить ахтырцев вот здесь, на этом самом поле, у Трилес, под пушки генерала Гейсмара…
Он верил, что император поймет и простит юных безумцев.
А Сергей прошел весь этот крестный путь по украинским снегам, весь, до последнего выстрела, потому что в ушах у него звенела моя Марсельеза!..
Я осознала это – и стало мне страшно.
– Погоди, погоди… – торопливо зашептала я. – Успеешь еще умереть, я спасу тебя, твои раны окажутся не смертельными… Попробуй, приподнимись, я обхвачу тебя, не бойся, я сильная…
– Знаю, – усмехнулся Сергей своей стремительной, до боли родной улыбкой. – Только не надо… Пусть все останется, как есть. Для чего тебе меня спасать? Для какой светлой будущности? Одно мне тогда останется – выйти в отставку, залечить раны, жениться на богатой купчихе, сидеть во дворе в халате и кур кормить. Ты этого для меня желаешь, Паризьена? Нет уж, пусть все будет так, как получилось, коли уж не смогли купить кровью вольности!
И он был прав.
– Но, Серж, неужели тебе дороже жизни какая-то вольность, которая, может, и через двести лет не придет? – с тоской воскликнула я, ничего уже не соображая от безнадежности. – Ты же и не отведал этой вольности, и не отведаешь?
– Знать, не судьба…
– Может, в ней и радости никакой не окажется?
– Этого не может быть, – убежденно прошептал он. – Ты же сама обещала… Ты же пела!..
– Пела…
Круг замкнулся.
Тот, кого Адель Паризьена весело звала на смерть во имя свободы, умирал передо мной на окровавленном снегу. И ничего я не могла тут поделать. Это был лучший путь из всех, лежавших перед ним…
Это была единственно достойная его судьба…
Начиная с того жаркого июльского дня, когда я увидела его – в выгоревшем доломане и заломленном зверски набекрень кивере, запыленного, шагом съезжающего с ромашкового косогора на сером коне, когда приняла в распахнутое сердце синий-синий взгляд (и неважно, когда и где это случилось на самом деле), я любила его так, что даже и слов для этой любви не искала, заранее зная, насколько несовершенны слова.
И он, вовсе не идеал и не ангел, а тот еще подарочек, в свой последний миг оказался достоин самой пылкой любви.
Во мне вспыхнула сумасшедшая гордость – ведь я люблю лучшего, отважнейшего, благороднейшего в мире, а это мало кому из женщин по плечу.
Внезапно я поняла, что должна сделать. Эта мысль показалась мне на изумление логичной. Душа обрадовалась – как, оказывается, все просто!
Никогда, наверно, я не любила его так сильно, как в эту минуту, – постаревшего, израненного и обреченного. Поэтому мне оставалось одно – лечь и умереть вместе с ним.
– Нет! Нет! – воскликнул Ингус. – Ты ведь можешь все переиграть! Соберись с силами, начни сначала! Это в твоей власти! Не позволяй Паризьене рассказывать ему о Вандее и бесстрашных батальонах Сантерра, о площади, на которой будут танцевать!
– А что же будет вместо этого? – с внезапным интересом спросил Сергей.
– Да разве она не сочинит? – изумился путис. – Она же – со-чи-ни-тель-ни-ца! Пусть Адель споет не «Марсельезу», а что-нибудь другое! Мало ли песен?..
– Нет, Паризьена, ты споешь именно «Марсельезу», – тихо и упрямо приказал Сергей. – Я так хочу. Я с ней свою жизнь прожил… Вы хотите что-то изменить в прожитой жизни?
– Если бы мы могли… – прошептала я, с ненавистью глядя на Ингуса. – Если бы могли!..
– Был пир… – просветленно и мечтательно произнес Сергей. – Звенели бокалы, мы пили за вольность… И ни за что иное из этих бокалов более пить нельзя. Понимаешь?
Он улыбнулся стремительной своей улыбкой, и я впервые поняла, почему она у него такая. Он просто нашел свой способ прятать печаль. Быстрый проблеск зубов, молниеносный прищур глаз – почему я так долго принимала их за улыбку?
– Что же, – ответила я, – пьем за вольность!
И осторожно легла рядом с ним в снег. Больше я ничего не могла, только умереть – вот так, с ним рядом.
Над головой было январское небо. Вызвездило – к морозу… И вдруг из облачка над моими губами стало возникать лицо. Близко-близко…