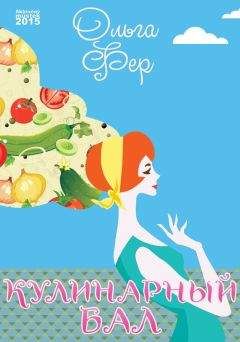Екатерина Казакова - Наследники Скорби
— Клёна! — Он улыбнулся.
Не думая, как выглядит со стороны, девушка бросилась к нему.
— Птаха, вот и к отцу поедешь. Все хорошо. Воин надежный, обоз большой. Нескучно тебе будет. Да и поправилась ты. Вон и щеки округлились.
— Я… я…
Она задохнулась и прижалась к нему всем телом. От него пахло морозом и домом. Ратоборец обнял девушку и даже чуть-чуть оторвал от земли. Она взвизгнула и засмеялась.
— Рада? — неверно истолковал он ее порыв.
Глаза у Клёны были полны слез.
— Ты… я…
— Идем в дом, не стой, застудишься. Гвор, и ты проходи.
Но мужчина задумчиво смотрел на растерянную девушку с дрожащими губами и ответил:
— Ступайте, я пока коня вон расседлаю.
И он пошел к конюшне, словно не было при дворе служки.
А Клёна взяла Фебра за руку и повела со двора. Они неторопливо поднимались по всходу, рука в руке, и вдруг девушка остановилась, повернулась к своему спутнику и сказала:
— Я скучать буду…
Он улыбнулся и ласково погладил ее по щеке кончиками загрубелых пальцев.
— И я по тебе, птичка. Красивая ты какая стала. Женихов скоро толпа набежит.
Она смотрела на него своими огромными влажно блестящими глазами и вдруг тихо сказала:
— Я только за тебя пойду…
И залилась такой жаркой краской, что сама испугалась — не сгореть бы.
Обережник окаменел. Он не был особо речист, а тут и вовсе не знал, что сказать этой девочке, смотрящей на него взглядом, полным обожания и надежды…
— Клёна… ты… — и он привел единственный доступный ему в этот миг довод: — Я же старый…
— Нет! — она воскликнула это так запальчиво, словно он наговаривал сам на себя. — Ты — самый-самый лучший!!!
В ее звенящем голосе мешались отчаяние и страх. Она уже поняла — что-то пошло не так, и испугалась.
— Птичка, — ратоборец мягко взял ее лицо в ладони, — ты ж дите совсем. Зачем я тебе? Прибьют ненароком — овдовеешь. Тебе муж нужен по летам. Хозяин, заступник, надежа. А я что? Сегодня тут, а завтра нет меня.
Девушка отчаянно замотала головой, разбрызгивая горячие слезы. Несколько тяжелых капель упали на его ладони.
— Нет! Никакой другой мне не нужен!
— Птаха… да ты что ж…
И тут она поняла. Все поняла, что между ними было. Точнее — то, чего не было. Она для него навсегда останется девочкой, спасенной от волколаков. Отважной девочкой, потерявшей семью, одинокой, замученной. Девочкой, которую надо утешить, пожалеть, приласкать. И не в чем его обвинить, не в чем упрекнуть, ведь сама обманулась. Да только сейчас это не утешало, а напротив, злило.
Клёна вырвалась из сильных рук, чуть не упала и помчалась прочь, ничего не видя сквозь застилающие глаза слезы. От кого она бежала? Кого ненавидела в этот миг? Только себя. Себя, свою глупость и девичий короткий ум.
Как воробей под стреху, она забилась в дровяной сарай и с яростью выдирала из косы, вместе с волосами, синюю ленту, которую он ей когда-то подарил. Не будет ничего между ними. Никогда! Дура! Курица глупая! И она рыдала от стыда, от уязвленной женской гордости, от жестокого разочарования и обиды. И больно становилось оттого, что ее любовь — такая сильная и бескорыстная — не нужна ему вовсе. Почему? Что с ней не так? Лицом или статью не вышла? А ведь в Лущанах первой красавицей считалась среди погодок своих… Чего ему только надо?
И слезы капали, капали, капали…
* * *Нынешняя осень для Цитадели выдалась серая, тревожная и полная смутных предчувствий недоброго. Когда Донатос возвратился в Цитадель, Белян уже три седмицы как сидел в подземельях. А вместе с ним и Светла.
Колдун сперва не поверил, что блаженная и впрямь дожидалась его все эти дни в каземате, но Руста с досадой махнул рукой:
— Как ни выманивали ее только, чего ни сулили — нейдет, проклятая! Сидит там, песни тянет да лохмотья перебирает. Лишь в трапезную выползает, и то раз в сутки. Последние дни вовсе только плачет. Парни на страже стоять измаялись, говорят, жалко слушать, как убивается. Видать, в мыслях схоронила уже тебя. Спускайся, забирай красу свою ненаглядную, пока с тоски не завяла.
Наузник про себя помянул дуру-девку по матери и скрипнул зубами. На миг закралась в голову крамола: может, не ходить вовсе? Поплачет-поплачет, да и отойдет к Хранителям. Ему все равно. А ей — облегчение.
Но за столько-то дней Донатос отдохнул душой от скаженной и потому сейчас в нем не было прежней досады и злобы. Ну, сидит, дура, ну, ждет. Ум скудный от рождения. Не пропадать же из-за этого? И, скрепя сердце, колдун отправился-таки в подвал. Не сразу, конечно. Что ей сделается за несколько оборотов? Сходил в мыльню, потом в трапезную, потом к Нэду, и лишь вызнав последние новости Цитадели, пошел за дурочкой.
К тому времени на лес уже опустилась непроглядная ночь.
В подвале было тихо. Но из дальней темницы неслись слабые судорожные вздохи, так дышат после бурной истерики — прерывисто, неровно.
— Эй, где ты там, бестолочь? — позвал Донатос свою докуку.
Выуч, стоящий на страже, загремел ключами, отпирая решетку.
— Родненький… — донеслось с деревянного топчана. — Свет мой ясный!
И дуреха повисла на креффе, хрипло и счастливо рыдая.
Он небрежно похлопал ее по макушке, оторвал от себя и подтолкнул к выходу. Глупая послушно заторопилась. Была она грязная, платье от сырости испрело, а уж воняла… мышами, плесенью и гнилью.
— Идем, идем… — мужчина подгонял юродивую. — В мыльню ступай. А то разит от тебя, как от ведра поганого.
Скаженная виновато улыбалась, приглаживая свалявшиеся сальные кудри. Донатос глядел на нее — и сердце щемило. Нет, не от жалкого вида убогой, а от понимания того, что все теперь начнется сызнова. Опять будет всюду следом таскаться…
Пока счастливая Светла гремела лоханками в мыльне, обережник ушел в свой покой. Ждать ее под дверью еще не хватало.
В комнате было тепло, кто-то из служек принес дров на утренний истоп, подложил лучин. Колдун повалился на лавку и уснул.
Разбудил его грохот и вопли Нурлисы:
— Разлегся он, упырь! Кровосос окаянный! Дрыхнет! А девка у меня голая сидит, плачет!
Колдун сперва не сообразил: какая еще девка, почему голая, чего плачет? Открыв старухе дверь и проморгавшись на сияние светца, спросил хриплым со сна голосом:
— Чего ты разоралась?
— Разоралась! Одевать ее во что? Она мои рубахи не берет! Говорит, не срядные, а ейная испрела вся и воняет! Ну, чего вылупился?
Колдун с хрустом зевнул и ответил:
— В холстину какую-нибудь заверни, да и будет с нее.
— Говорю ж тебе, не берет! Сидит нагишом и плачет.