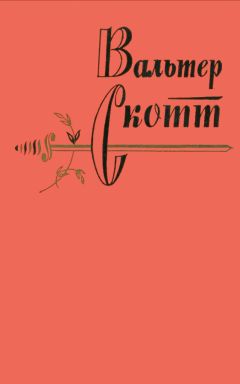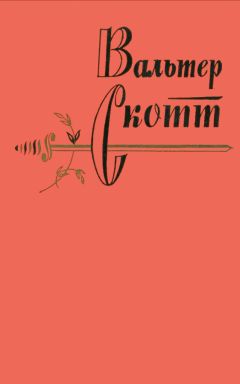Мария Теплинская - Короткая ночь
Хава была необъятных размеров пожилой еврейкой, которая всегда, когда бы они сюда не пришли, восседала на одном и том же месте — на скамье у ворот своего дома — и неизменно лениво лузгала одни и те же подсолнушки, чья шелуха постоянно прилипала к ее оттопыренной толстой губе. Иногда она собирала вокруг себя целую стаю окормленных зобастых голубей, прикармливая их семечками. Но самым неприятным в ней было то, что она всегда пребывала в дурном расположении духа и терпеть не могла не только длымчан, а вообще всех не местных, искренне считая, что нечего всяким чужим туда-сюда шастать.
К сожалению, лавка Соломона помещалась на той же улице, что и жилище Хавы, их разделяло всего два дома, так что пройти к Соломону, не попавшись при этом на глаза толстухе, было просто невозможно. Речь могла идти лишь о том, чтобы не ходить м и м о нее. А не то она начинала ругаться отвратительно шамкающим голосом и, что было уж совсем худо, швырять в проходивших мимо горстям твердых мелких камешков. Где она их брала — для всех осталось неразгаданной тайной; должно быть извлекала из своей необъятной пазухи. Надо сказать, швырялась она исключительно в молодых женщин, детей и подростков, если те оказывались рядом одни.
Вся округа знала, что Хава чуточку «сказившись», однако на своей улице она пользовалась всеобщим почтением; за какие такие заслуги — тоже великая тайна.
Но вот они уже спустились с пологого холма, следуя за извилистой торной дорогой, что вскоре, петляя в зеленых перелесках, наконец привела их к цели.
Местечко было обнесено добротной бревенчатой изгородью; почти такая же окружала их Длымь, только малость пониже. Сквозь широкие ворота, которые запирались только на ночь, дорога вела прямо на главную улицу, по обеим сторонам которой плотно лепились жидовские хатки. У обочины, вздымая клубами пыль, возились пестрые куры, по другой стороне улицы шествовало гусиное семейство во главе с огромным, вальяжным с виду гусаком, при виде которого, однако ж, разбегалась голопузая черноглазая детвора, а тощие коты стремительно взлетали на заборы. Навстречу длымчанам попался худенький кучерявый пацаненок, подгонявший хворостиной двух коров. Где-то неподалеку скрипел очеп и бренчали ведра, там же гортанными голосами переругивались хозяйки. И все же чего-то явно недоставало.
И впрочем, известно чего. Еще девчонкой, впервые попав сюда, Леська все дивилась, что не видит на этих улицах ни единого, даже самого ледащего поросеночка. У них-то, у длымчан, свинью держали на каждом дворе, а то и не одну.
А потом она слышала, как дед сочувственно вздыхал:
— Ох, жиды! Ни сальца им, ни вяндлинки — ничего ж нельзя! Тоска, не жизнь…
Хаву они увидели издалека. Она сидела все на том же месте, в своем неизменном коричневом платье, слинявшем под мышками, с неизменными жиденькими кудерьками, окрашенными в рыжий цвет — луком, что ли? И с теми же злющими глазами, острыми, как булавки, и тоже бесцветно-линялыми, цвета стекла разбитой бутылки. Проходя мимо нее, Леся малодушно отстала, и совершенно напрасно это сделала. Острая дробь мелких камешков ударила ее по ногам, подняв вокруг облачка пыли. Васю с дедом толстуха не тронула: осталась бы Леська у них на виду — глядишь, и тут бы обошлось.
Длымчанка, однако ж, не на шутку обозлилась: ударило все же больно. Она резко повернулась навстречу Хаве, устремив на нее свои бездонные колдовские очи, затем поводила в воздухе руками, пошептала и трижды плюнула в сторону несчастной толстухи. И отправилась далее своей дорогой, оставив вредную бабу дожидаться неминуемой чумы, холеры, парши и колтуна, да еще вкупе с пожаром, потопом и неудачными родами.
В маленькой темной лавке старого Соломона знакомо и уютно пахло гвоздикой, воском, лакричным корнем и немного пылью. Стояла жара, и вторая дверь позади прилавка, ведущая на задний двор, была распахнута настежь, только задернута старенькой завеской в полинялых цветочках. Леся отчего-то вдруг ощутила необъяснимую нежность и к этой завесочке, и к засиженному мухами оконцу, и к древнему прилавку с отполированной временем столешницей, что принадлежал еще деду нынешнего владельца. И к самому владельцу — суетливому старичку с блестящей плешью и карими лукавыми глазами.
— Вот и цыпка моя пришла! — радостно возвестил Соломон, едва она переступила порог.
Так он всегда ее называл — цыпка. Это ласковое словечко звучало довольно странно и при этом всегда удивляло ее своим смыслом. Почему — цыпка? Правда, вырастая, она и в самом деле стала походить на долгоногого цыпленка-подростка, однако словечко это она слышала еще в раннем детстве, когда до подростковой голенастости было еще далеко.
А впрочем, она ничего не имела против: цыпка так цыпка.
— Давно что-то вы ко мне не заглядывали, — продолжал старик, привычно отмеряя крупную желтую соль. — А я-то жду, когда же кто из ваших до меня выберется. Слыхал я, дела у вас творятся нехорошие, — добавил он, понижая голос и наклоняясь ниже к Юстинову уху.
У Леси так кровь от лица и отхлынула: нешто уже и сюда молва докатилась?
— Слыхал я, будто Яроська на вашего пана в суд подает, — продолжал Соломон, и от этих слов замершее было Лесино сердце вновь забилось ровнее: не знает!
— Да он уж третий месяц как подает, — пожал плечами Юстин. — Ничего, живем покуда.
— А мне вот боязно: а ну как взаправду разгонит он вас на все четыре стороны? Как же тогда наш край без Длыми? Это ж совсем не дело будет: ни славы прежней, да и вообще… Да и сам-то Яроська со скуки тогда удавится, что злобиться ему больше не на кого…
— Вот уж нашел ты, старый, кого пожалеть! — сплюнул Юстин.
— Да и за цыпкой-то приглядывай, — совсем тихонько зашептал Соломон. — Яроська-то на нее глаз положил. В деревню-то им нагрянуть — шуму сколько да слава на весь повет, а вот в лесу где-нибудь… Кто потом докажет? Была девка, да и нету!
Леся тихонечко потянула Василя за рукав:
— Пойдем, Васю, на улицу! Душно мне тут, неможется…
Василь покорно потащился за нею следом, хотя что-то в его сердце неясно ворохнулось, что не надо бы выходить…
Выйдя на улицу и совсем недалеко отойдя от дверей Соломона, он увидел, что сердце правду вещало: по той стороне улицы из-за угла один за другим выходили островские гайдуки — рослые, здоровенные, с заткнутыми за пояс нагайками — общим числом пять человек.
— Накликали! — ахнула Леся.
— Отвернись! — шепнул Василь. — Глядишь, не узнают.
Гайдуки их пока не видели, но прятаться в лавке было поздно: любое заметное движение могло привлечь к ним внимание. Леся быстро отвернулась лицом к стене, перекинув косу со спины на грудь. На голове, слава Богу, платок, приметных темных волос не видно… Панева, правда, на ней яркая, праздничная, поневоле глаз притягивает. Хорошо, хоть Василь заслонил ее широкими плечами.