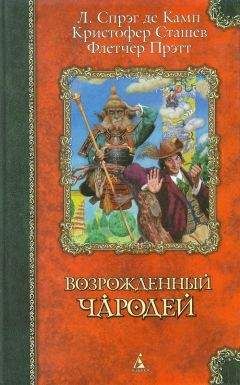Н. Джеймисин - Сто тысяч Королевств
— Делай со мной всё, что пожелаешь, Владыка Ночи, — прошептала еле слышно.
Меня обхватили.
Не говорю «руки» и «его», ибо их было великое множество: сжавших плечи, сковавших бёдра, запутавшихся в волосах. Даже свернувшись вкруг лодыжки. Комната почти целиком погрязла во тьме. Единственное, что я могла ещё видеть — бледный квадрат окна, и угасающее за ним небо, почти покинутое последними лучами света, опустившегося в горизонт багрового солнца. Звёзды кружились в глазах сверкающими прядями, как если бы меня вертело туда-сюда, вверх-вниз, покуда я наконец спиной не почувствовала под собой твердь кровати.
А после мы утоляли свой голод, насыщаясь друг другом. Касание за касанием, чувствуя его пальцы там, где желание тлело сильнее прочего; открытие за открытием, он утолял мое неведение, предугадывая мысль за мыслью. Предугадывая, проявляясь, подставляясь — каждый раз отставая на миг от моих жаждущих рук. Я обнимала пустоту — и она обращалась гладью перевитой мышцами руки. Сгибала ногу вкруг воздуха — и ничто претворялось плотью упругого, сильного, живого бедра. И так я лепила его, творила сообразно обличью из моих фантазий; и так он избирал быть подчинённым чужой руке, и воле, и образу. Когда тёплая мощная тяжесть толкнулась внутрь меня… не знаю, был ли то мужской пенис, или нечто совсем иное, фаллос, коим могли обладать одни лишь боги. Подозреваю, вернее из двух — последнее, ибо смертная плоть не могла с такой силой полнить женское тело, как он овладевал моим. И суть была вовсе не в размере. И когда на сей раз он наконец высвободил меня, я выпросталась с пронзительным криком.
— Йин… — Сквозь пелену разгорячённого тела, туманное марево, стоящее перед глазами, я сознавала немногое. Облака, стремительно несущиеся меж звёздных искр. Чёрнеющие плети, тёмной паутиной оплетающие потолок, ширясь и клубясь, и углубляясь, и сливаясь в одну исполинскую зияюшую мраком бездну. Настойчиво растущую амплитуду толчков, в бесконечной чехарде движений Ньяхдоха. И боль, бороздящую тело, — ибо и это было моим желанием. — Йин, откройся мне.
Даже не представляю, о чём он… на мысли меня уже не хватало. Но волосы внезапно сжало цепкой хваткой, под бёдра скользнула сильная рука, хлёстко притягивая ближе, пристраивая потесней — и вновь посылая меня очередным круговоротом спирали.
— Йин!
Столь безграничная нужда тлела в нём. Столь невообразимые раны — две из них, обнажённые, кровоточащие и незаживающие, по числу двух потерянных возлюбленных. Чересчур глубоких для одной юной смертной, коей невмочь было утолять их вечно.
Но даже в этом безумном экстазе… я пыталась. Раз за разом. И не могла; будучи всего лишь человеком. Но в ту секунду я, устремляясь навстречу, жаждала быть большим, исходить большим, давать большее, ибо я любила его.
Я любила его.
Ньяхдох резко изогнулся, ввысь, прочь от меня. В последней вспышке звёздного света глаза уловили мельком проблеск безупречного гладкого, совершенного тела, натянутого как струна извивами упругих мышц, глянцевито лоснящегося от струек пота, скатывающихся каплями вниз, туда, где наши тела сливались воедино. Пряди волос отлетели назад, отброшенные за изгиб спины. Провалы глаз крылись за судорожно сжатыми веками, разверзшийся криком рот перекашивал лицо, стянутое той восхитительной маской заведомо подступившей к самому краю агонии-возбуждения-ярости-боли-наслаждения, что стынет в миг готовящегося прорваться разрядкой удара.
Чёрные плети взметнулись в перехлёсте — заключая нас в объятия небытия.
И мы пали.
…нет, нет, полетели, не книзу, но ввысь, во тьму. Во тьму, испещрённой прожилками, тончайшими беспорядочно мельтешащими нитями — белоснежными, и золотистыми, и алыми, и цвета ярчайшей синевы. Я потянулась, в попытке ухватить эту мерцающую чару и потянуть к себе, но что-то вдруг обожгло кончики пальцев. Всмотревшись, я обнаружила их увлажнившимися от мерцающих крупиц чего-то, что сочились, сучились крошечными пылинками энергии, плывущими по орбите. А потом Ньяхдох разразился воплем, а тело его — содрогнулось, и нас вознесло…
…минуя бесконечные скопления звёзд, минуя бесчисленные миры — через слоистую пелену света и раскалённые добела гряды облаков. Неслись вверх и вверх, и быстрота наша была невероятной, а размах наш, и размер, и предел — непостижим. Оставив далеко позади светлые чертоги, возносились всё дальше и дальше, рассекая нечто более странное, более невообразимое, чем просто — миры. Геометрические формы, скрученные, спутанные и горячащиеся. Белоснежный ландшафт из закостеневших, застыших льдом вспышек и взрывов. Трепетавшие грозди плетей — умысла! — рвущихся в погоню за нами. Живые громадины наподобие левеиафанов, исполненные ужасающих душу очей и лиц давно утерянных друзей.
Я сомкнула глаза. Мне пришлось их сомкнуть. Тем не менее картины никуда не девались, продолжая и длясь, ибо в этом месте я не имела век, дабы прикрыть глаза. Безмерная, я витала в небытии, и продолжала расти и шириться. Миллион стоп, два — дланей… Я и вовсе уже не знала, чем обернулась в этом странном месте, куда Ньяхдох увлёк меня, ибо вещи, царящие здесь, ни единой смертной душе ни сотворить, не бысть и не уразуметь, а я объемлила все их разом.
Нечто давное знакомое, изведанное: тьма, коя явялась квинтэссенцией самой сущности Ньяхдоха. Она осаждала, окружала, теснила меня, покуда весь выбор не сошёлся в одном — сдавшись, уступить ей. Что-то бурлило внутри меня — здравость? разумность? самость? — удлиняясь, взрастая, смыкаясь натянутой до такого предела струной, что мерещилось: одно лишь касание, — и им конец. Обрыв. Слом. Да, то был неизбежный конец всему. Но всякий страх, казалось, оставил меня, даже тогда, когда слуха коснулся первый звук: колоссальный, неслыханный, ужасающий рёв. Что я могу сказать? описать? изобразить? — кроме того, что рёв этот зародился в глубинах голоса Ньяхдоха, когда он вновь разразился ором. Потом я дозналась, что его исступлённый экстаз вынес нас за пределы вселенной, и мы подступили к самому Маальстрему, прародине богов. И одно это способно было разодрать меня в клочья.
А потом, когда рёв взмыл особенно убийственной нотой, что я поняла — более мне не снести, не выдержать, — мы застыли. Зависли, паря недвижимо, сдерживаемые на месте.
А после вновь понеслись, уже вниз, падая сквозь невнятно копошащиеся неведанные странности, и дробящийся мрак, и слоящуюся тьму, и вихри света, и свистопляску небесных тел — вкруг одного, особенно прекрасного, зеленовато-синего шарика. И неслись, неслись, покуда не грянула новая волна рёва и покуда мы, рушась вниз, не прочертили собою воздух, прокладывая путь сгустком раскалённого добела пламени. И что-то пылающее бледным огнём не вздёрнулось на дыбы, из ничтожного враз обратившись громадой, и всеми шипами, шпилями, остриями, и белокаменным массивом, и предательской изменой… — Небеса, то были Небеса, — не поглотило нас целиком.