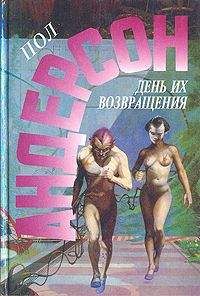Максим Далин - Моя Святая Земля
— Темно же ещё, — Алвин взглянул в окно, где луна лишь начинала белеть. — Я думал, часы били раза четыре…
— Шесть, — сказал Сэдрик. — Надо. В городе драконы. Хотят разговаривать с королём — не знаю, с тобой или с настоящим государем, но факт: не поговорят — сожгут город к бесу лысому. Жаль государя будить, уже несколько ночей спит урывками — а надо.
— Я уже не сплю, — сонно сказал Эральд, улыбнулся, потянулся и зевнул. — Я всё слышал. Ты как себя чувствуешь, можешь ехать?
— Руку дай. С тобой я куда угодно могу. И когда угодно.
Алвин слушал, и внутри у него стыл острый кусок льда. Драконы. Мстители. Дурные амбиции. Зачем, зачем, во имя Творца и во имя ада, зачем было их трогать?!
С другой стороны, вдруг пришло в голову, лучше сгореть в драконьем огне, спасая столицу, чем быть вздёрнутым на рыночной площади.
— Вот что, — сказал Алвин, стараясь не замечать внутренние конвульсии. — Драконы — ко мне. Я и буду с ними разговаривать. Их не корона занимает, они хотят отомстить. Ну и пусть.
— Поговорим вместе, — весело сказал Эральд, хлопнув его по спине. — Ты гнусно, конечно, обошёлся с драконом, но я его выпустил, может, они это вспомнят, — и расхохотался, оценив Алвиново выражение лица.
* * *В спальне замка было ужасно холодно. Эральд с тоской подумал, что горячий душ недосягаем, как райские кущи, а пить с утра тёплое вино с пряностями в попытке согреться совершенно не хотелось — он не привык. Хотелось кофейку, которого негде было взять, с бутербродом, который казался каким-то чародейским артефактом из другого мира.
Но Джинера предложила горячего молока с мёдом — и это пошло гораздо лучше. А хлеб, намазанный маслом, с ломтиком неожиданного, очень твёрдого, очень сухого и очень пряного сыра, поразил воображение союзников; все с удивлением попробовали. Они завтракали, почти как земные средневековые феодалы — сидя на громадной кровати, прижимаясь друг к другу и укрывшись одним одеялом, а за окном занималась ледяная розовая заря.
И надо было очень торопиться.
Сэдрику за ночь заметно полегчало, он выглядел лучше, зато Алвин казался совсем замученным — его лицо осунулось, как после тяжёлой болезни, и шикарные волосы висели сосульками.
— Ты что, совсем не спал? — спросил Эральд, глядя в его покрасневшие и ввалившиеся глаза.
Алвин кивнул.
— Не спалось. Сегодня — сперва драконы, потом, если переживём драконов, суд, а завтра — эшафот. И кровищи по колено, вот увидишь. Бедный низложенный последней ночкой, как полагается по канону, любовался Божьими звёздочками и думал, не заколоть ли тебя во сне. Так что — не мешай правосудию, благой, не рискуй. Со мной говорит ад.
Джинера ахнула. Эральд хотел ответить, но Сэдрик его опередил:
— Думал. Но не заколол бы. Я спал, государь, а это значит, что Дар спокойненько лежал, тлел, не горел. Ни один проклятый в одной комнате с убийцей не заснёт — я не чувствую, что ты опасен.
— Я убийца, — с бесстрастной миной возразил Алвин. — И своими руками убивал, и приказывал, — и потянул себя за воротник, будто чувствовал петлю на собственной шее.
— Или ад за тебя.
— Какая разница…
Эральд взял его голову двумя руками, повернул лицом к себе:
— Братишка, сосредоточься. Никакой казни. Никакой кровищи. Ничего такого не будет. Всё, дурдом закрыт, хватит. Будем убирать весь этот свинарник, наводить мосты, успокаивать и лечить. И хватит себя жрать.
— Так не бывает, — снова возразил Алвин. — Прости.
— Посмотрим. Всё, пора ехать. А то драконам наскучит ждать, и они решат напугать всех до икоты. И кто знает, что случится.
Кутаясь в плащи и застегнув куртки до подбородков, вышли во двор. Хрустящий хрустальный холод стоял, как вода, неподвижно — и иней покрыл всё, даже повисшие в безветрии золочёные королевские штандарты. Небо было прозрачно насквозь, луна была, как тонкая ледышка, звёзды угасли, а мир благоухал дынно, яблочно, ванильно — и даже запахи дыма и конского навоза казались в этом морозном благоухании прекрасными. Шаги, голоса, ржание коней — все звуки стали чётче и звонче, будто отняли от мира какую-то глухую затхлую подушку.
Дорога до столицы оказалась сказочно прекрасной. Лес, ещё вчера чёрный, как обугленный, в грязи оттепели, сейчас покрылся инеем сплошь, превратился в рождественскую открытку, синел и розовел в первых лучах зари — и острыми искрами поблёскивали ледяные грани. Дорога превратилась в стылое стекло, и копыта лошадей грохотали по ней со звоном, и гремели колёса кареты. Холод вычистил мир до стерильности, а иней украсил всё безобразное, скрыл всё ужасное — превратив в какую-то абсурдную новогоднюю инсталляцию даже труп на виселице в предместье.
Но этот труп выбил Эральда из немотивированной инстинктивной радости бытия. Магия кончилась — начинались будни без привкуса чудес. Ад ушёл, слился, как стоячая вода, оставив грязные и кровавые пятна; эти пятна ещё только предстояло отмыть.
Гонец из столицы встретился у городских ворот и пытался что-то передать в окно кареты. Алвин даже руки не протянул; он сидел, откинувшись назад, обхватив себя руками, с тем безучастным видом, какой случается от катастрофической усталости и такой же катастрофической безнадёги — и Эральду пришлось остановить карету и взять послание.
Подписанное канцлером, герцогом Дамьеном. Нижайшая просьба государю срочно прибыть в столицу, ибо столице угрожает опасность.
Роскошный титул: "Его королевскому величеству, прекрасному и всемилостивейшему государю Святой Земли" — но без имени.
— Кому-нибудь из вас, — хмыкнул Сэдрик, заглянув через плечо.
— Трус и подлец, — шепнул Алвин. — Ошибёшься — вздёрнут вместе с тем, к кому обратился, не подумав…
— Неважно, — выдохнул Эральд, бросив письмо на сиденье. — Вперёд, там посмотрим.
Карета, сопровождаемая златолесским эскортом, влетела в город.
Эральд с удивлением увидал, что город не просто проснулся — город поднялся, как поднимался по воздушной тревоге Ленинград военной поры. На улицах было слишком многолюдно — и слишком многие смотрели в небо. У подъездов домов стояли готовые к отъезду экипажи; многие из них были нагружены какими-то тюками и свёртками. Столица отнеслась к драконьей угрозе серьёзно — располагавшие ценным имуществом готовились в случае несчастья его эвакуировать, не располагавшие спозаранку подняли детей, и теперь те дремали в каретах и колясках, кутаясь в шубы и плащи.
Те, у кого не было ни имущества, ни колясок, просто стояли, глядя вверх, и ждали.
Из окна кареты Джинеры никто не мог видеть, что делается в небесах — но все поняли.