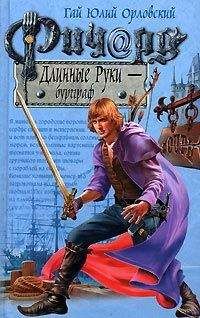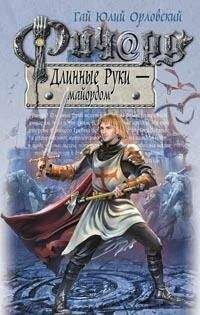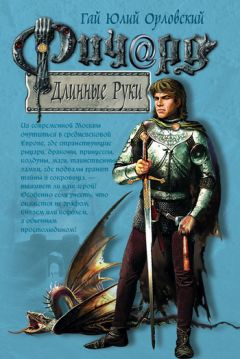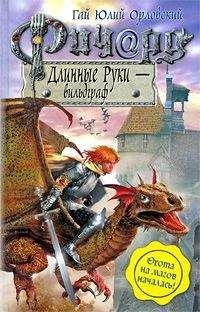Гай Орловский - Ричард Длинные Руки – бургграф
Торкилстон поглядывал обеспокоенно, ничего не слышал, но догадался, что какой-то обмен словами произошел, нахмурился.
– Неприятности?
– В прошлом, – ответил я.
– Но вы озабочены, сэр Ричард. На челе у вас туча…
Я отмахнулся:
– Знаменитый трубадур Маяковский сказал: «Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп…»
Я подозвал Зайчика, уже в седле размышлял над словами слабого человечка, которому нужен пастух. Это знакомо, когда вот так все понимают, но увязают в пьянстве или наркомании глубже и глубже. И не только в пьянстве, это так, для примера. Пьянство стало нарицательным, но так же может выбить человека из нормальной колеи любая чрезмерность: хоть жратвой, хоть бабами. И всегда эти несчастные надеются, что вот придет кто-то и спасет их: то ли подарит пилюли, при которых можно жрать в три горла и не зарастать жиром, то ли еще как-то все за них сделает и спасет…
К особняку Бриклайта я подъехал во главе наспех собранной городской стражи. Капитана Кренкеля застать не удалось: он с сотней всадников преследует за городом крупную шайку разбойников, ограбивших караван.
У ворот особняка охрана задергалась, я видел испуганные глаза этих толстомордых молодых мужчин, трясущиеся губы и лязгающие в страхе зубы.
– Что, – сказал я почти ласково, – это вам не чужих жен безнаказанно лапать? Страшно отвечать?
– Да мы что, – торопливо заговорил один, – мы ничего… что приказывают… а сами мы ничего…
– Ну да, – протянул я, – исполнители не виноваты? Ладно, обойдусь без юридических тонкостей. Вернусь, всех перевешаю.
И пошел в дом, а за мной, гремя оружием и доспехами, тяжело прошел сэр Торкилстон, следом, уже тише, проскользнули с десяток городских стражей. Не перевешаю, мелькнула тоскливая мысль. Все простолюдины одинаковые, все равно кому-то и службу нести надо, не всем же быть рыцарями без страха и упрека?
Зато сами разбегутся, мелькнула другая мысль. Кто-то в самом деле из-за боязни быть обвиненным в превышении поспешит вернуться к работе кузнеца, плотника или шорника…
Вряд ли, сказал трезвый голос. В сладостный загул уйти легко, выйти – трудно. А здесь весь город надо выводить из загула.
В нижнем холле, на лестнице и в коридорах пусто, а если где и высунется кто, то сразу же исчезает. Огромный дом похож на корабль, с которого уже убежали крысы, но корабль еще на плаву.
Я прошагал быстро через знакомые пышно обставленные комнаты, пинком распахнул дверь. Бриклайт за тем же столом, такой же грузный и массивный, но уже не железная глыба, а бесформенный мешок, даже рожа обвисла, щеки как у бульдога, под глазами мешки в три яруса, лицо серое, будто осыпанное землей.
Он поднял на меня затравленный взгляд. Я иду к его столу напрямик, и вот такое я чудовище: убил всех четверых его сыновей, но все еще не чувствую жалости.
– Все кончено, Бриклайт, – сказал я. – Я предупреждал, но ты не остановился.
Он продолжал смотреть на меня неотрывно, в глазах ни страха, ни злобы, одна пустота. Я вытащил нож, попробовал пальцем остроту лезвия.
– Бриклайт, – сказал я, – твои сыновья совершили насилие. Более того, не осознав и не возместив ущерб, готовились еще и повторить. Ты же виновен лишь в нечистоплотных сделках. За это я всего лишь конфискую твое имущество, нажитое неправедно. То есть нажитое нечестным путем… Вернее, ты передаешь его той, что пострадала от тебя больше всего, Амелии Альенде.
Толстые кожистые веки дрогнули, глазные яблоки повернулись с таким усилием, что я услышал надсадный скрип.
– Почему?
– По праву сильного, – ответил я злобно. – Как и ты, когда отнимал у земледельцев их земли. По праву сильного! Но ты отнимал по своей воле, а я представляю закон! Сильный закон.
– Не отдам, – сказал он хрипло.
Я обогнул стол и приставил лезвие ножа к его шее.
– Вот и хорошо. Это даже очень хорошо, что отказался. Вообще-то тебя опасно оставлять живым у себя за спиной.
Он прохрипел, стараясь не двигаться:
– А что я получу?
– Жизнь, – сообщил я, – этого мало?
Он прохрипел снова:
– Жизнь… Разве это жизнь? Я и дня не проживу в нищете, выброшенный на улицу.
Я подумал, кивнул:
– Да, в вашем городе растут быстро, но политкорректность и гуманизм наступят еще не скоро. Тут же кто-нибудь припомнит обиды и сунет нож под ребро. Но есть другой вариант…
Он дышал хрипло, надсадно, лицо осталось синюшным. Я подумал насчет приближающегося инфаркта, то бишь кондрашки, отодвинул нож на пару сантиметров, но держал на виду.
– Какой… – спросил он сипло.
– В Шершессе, как мне рассказали, растет твоя внучка, – сообщил я. – Кажется, от Вильда? Хоть внебрачное дитя, но ваша кровь… Хорошенький ребенок? Должно быть, хороший, она же с вами еще не общалась… Так вот, я даю шанс уехать туда и там начать новую жизнь. Тебе пятьдесят, в этом возрасте еще можно брать новых жен и даже рожать новых детей. Но если такой охоты нет, то можно попробовать хотя бы того ребенка сделать счастливым.
Он сопел, дышал тяжело, на лбу собрались глубокие морщины.
– У меня нет денег, – сказал он. – Я все вложил в строительство… в подготовку к строительству порта.
– Хорошая идея, – одобрил я. – Городу в самом деле нужен новый порт. И место выбрано отличное. Обещаю, порт появится! Но только хозяином будет эта женщина. Это ей возмещение за избиение и… вообще за все, что перенесла.
Он думал долго, я потерял терпение и приложил острое как бритва лезвие к его артерии. Слегка нажал, кожа лопнула с сухим треском. Кровь полилась тонкой струйкой, от артерии холодную сталь отделяет полмиллиметра.
– Постойте! – прошептал он. – Я… согласен.
– На что?
– Я подпишу все бумаги… Я уеду в Шершессу…
– Разумное решение, – похвалил я. – В тебе чувствуется стратег, что все рассчитывает правильно. Итак, приступим?
Я позволил ему встать, но, когда он шел к массивному шкафу с запертыми на замок дверцами, я держался сзади и чуть сбоку, а острие ножа приставил к его левому боку, чтобы при рывке вверх сразу рассекло сердце. Бриклайт все понимал, двигался осторожно, резких движений не делал.
Когда открыл шкаф, больше похожий размерами на гардероб для верхней одежды, там в самом деле бумаги и письменные принадлежности, но так же длинный узкий кинжал, небольшой арбалет со взведенной тетивой и железной стрелой в ложбинке и ярко-красный шарик, что пульсирует, как живое сердце.
Лезвие моего ножа пропороло его одежду и слегка погрузилось в плоть.
– Замри, – велел я. – А теперь… очень-очень медленно… бери бумаги и чернильницу… одно резкое движение, и нож пропорет сердце раньше, чем что-то схватишь.