Рэй Брэдбери - Темный карнавал
Теперь у него не было и тела, оно исчезло. Вернее, было, но в нем жгуче пульсировало наркотическое зелье. Как будто голову аккуратно отделили от туловища хирургическим ножом, и она, освещенная слабым ночным светом, покоилась на подушке, а туловище было внизу, все еще живое, но не его.
Оно принадлежало кому-то другому. Болезнь сожрала туловище и воспроизвела его подобие, бьющееся в лихорадке. У этого подобия были и редкие волоски на руках, и ногти, и шрамы, и даже маленькая родинка на правом бедре – все было воспроизведено абсолютно точно.
"Я мертв, – подумал он. – Меня убили, и я все же жив. Мое тело мертво, оно теперь только болезнь, и никто об этом не узнает. Я буду всюду ходить, но это буду не я, это будет что-то другое. Это что-то будет ужасным, злым, огромным. Таким злым, что его невозможно будет понять и осмыслить. Оно будет покупать обувь, пить воду, когда-нибудь женится и однажды совершит такое зло, какое никогда раньше не совершалось".
Теперь тепло подступало к шее, заливая щеки, как горячее вино. Губы горели, веки вспыхнули, словно лепестки, из ноздрей вырывалось едва заметное голубое пламя.
"Вот и все, – подумал он. – Огонь охватит мою голову, мой мозг, расправится с глазами, потом с зубами, со всеми мозговыми извилинами, ушными раковинами. И от меня не останется ничего".
Он почувствовал, как его мозг заливает кипящая ртуть, как левый глаз сомкнулся, словно раковина беззубки, и закатился. Он ослеп на левый глаз. Тот больше ему не принадлежал. Теперь это была территория противника. Язык исчез, был вырван. Левая щека онемела и пропала. Левое ухо перестало слышать; Теперь оно принадлежало кому-то другому.
Превращение заканчивалось, минерал заменил дерево, болезнь заменила здоровые живые клетки.
Он пытался кричать. Крик резко, высоко и громко звенел в комнате все время, пока вытекал мозг. Его правый глаз и правое ухо были вырезаны. Он ослеп и оглох. Все заполнил хаос, ужас и огонь. Это была смерть. Он затих, когда мать вбежала в комнату и бросилась к постели.
Стояло чистое, ясное утро. Свежий ветер дул доктору в спину всю дорогу к дому. У окна верхнего этажа стоял полностью одетый мальчик. Он даже не махнул рукой в ответ на восклицание доктора:
– Что я вижу? Ты встал! О, Господи!
Доктор почти бегом поднялся по лестнице. Задыхаясь, он влетел в спальню.
– Почему ты не в постели? – спросил он мальчика и, не дожидаясь ответа, бросился выстукивать ему грудную клетку, щупать пульс и мерять температуру. – Просто удивительно! Нормально. Боже мой, нормально!
– Я никогда больше не буду болеть, – чуть слышно сказал мальчик. Он стоял и смотрел в открытое окно. – Никогда.
– Я надеюсь. Ну что же, ты выглядишь прекрасно, Чарльз.
– Доктор!
– Что, Чарльз?
– Теперь я могу ходить в школу? – спросил мальчик.
– Завтра уже будет можно. Похоже, что ты туда прямо-таки рвешься.
– Да, я люблю школу. И всех ребят. Я хочу играть с ними, бороться, плеваться, дергать девчонок за волосы, пожимать руки учителям, отираться в раздевалке. Я хочу вырасти, попутешествовать, пожать руки людям всего мира, жениться, иметь много детей, ходить в библиотеки, брать книги – все это и многое другое. Я очень хочу, – сказал мальчик, глядя в сентябрьское утро. – Как вы меня назвали?
– Что? – доктор опешил. – Я назвал тебя твоим именем Чарльз.
– Я думаю, лучше быть Чарльзом, чем оставаться вообще без имени, – пожал мальчик плечами.
– Я рад, что ты хочешь вернуться в школу, – заметил доктор.
– Я действительно очень жду этого, – улыбнулся мальчик. Спасибо вам за помощь, доктор. Давайте пожмем друг другу руки.
– С удовольствием.
Они серьезно пожали друг другу руки. В окно дул свежий ветер. Рукопожатие продолжалось с минуту, мальчик улыбался старику и благодарил его.
Потом, смеясь, он проводил доктора вниз, до машины.
Мать и отец бросились вслед за ними пожелать доктору счастливого пути.
– Здоров, как бык! – заметил доктор. – Невероятно!
– И силен, – вторил отец. – Он сам выпутался сегодня ночью. Не так ли, Чарльз?
– Да?
– Конечно! А как же?
– Это было так давно, – сказал мальчик.
– Да, давненько.
Они все засмеялись, и, пока все смеялись, мальчик незаметно опустил босую ногу на тротуар и лишь слегка коснулся сновавших там муравьев.
Он сделал это тайком, пока родители болтали с доктором. Его глаза вспыхнули, когда он увидел, как муравьи затрепетали в нерешительности, а потом замерли на асфальте.
Он почувствовал, как они окоченели.
– До свидания!
Доктор умчался, помахав на прощанье рукой.
Мальчик шел впереди родителей и смотрел на город, мурлыкая себе под нос "Школьные дни".
– Хорошо, что он поправился, – заметил отец.
– Послушай его, он так хочет в школу!
Мальчик медленно повернулся, крепко обнял обоих родителей и несколько раз расцеловал. Затем, не говоря ни слова, убежал в дом.
В прихожей, прежде чем пришли все остальные, он быстро открыл клетку, просунул руку и всего один раз погладил желтую канарейку.
Потом закрыл дверцу, отступил на шаг и замер в ожидании.
Женщины
The Women 1948 год
Переводчик: Т. Сальникова
Океан вспыхнул – как будто в зеленой комнате включили свет. Под водой, точно пар, который осенним утром выдыхает море, зашевелилось и поплыло вверх белое свечение. Из какой-то потайной впадины стали вырываться пузырьки воздуха.
Она была похожа на молнию – если посчитать море зеленым небом. И все же она не была стихией. Древняя и прекрасная, она нехотя поднималась из самых глубин. То проблеск, то шепот, то вздох – ракушка, травинка, листок… В ее безднах колыхались похожие на мозг хрупкие кораллы, желтые зрачки ламинарий, косматые пряди морской травы. Она росла с каждым приливом и с каждым веком, она по крупицам собирала и старательно берегла и прах, и саму себя, и чернила осьминогов, и все, что рождает море.
Нет, она не была стихией.
Просто – некая светящаяся зеленая сущность в осеннем море. Ей не требовались глаза – чтобы видеть, уши – чтобы слышать, кожа – чтобы осязать. Она вышла из пучины морской. И могла быть только женщиной.
Внешне она ничем не походила на мужчину или на женщину. Но у нее были женские повадки – мягкие, вкрадчивые, лукавые. И двигалась она совсем как женщина. Словом, в ней легко угадывались все знакомые женские штучки.
Карнавальные маски, серпантин, конфетти… Всё, что вбирали в себя у берега темные волны, наполняясь, словно человеческая память, – всё сияющие зеленые пряди пропускали сквозь себя. Так ветви векового дуба пропускают сквозь себя ветер. Здесь были и апельсиновые корки, и салфетки, и яичная скорлупа, и головешки от костров… Она знала: их оставили после себя длинноногие загорелые люди из каменных городов – те, что бесцельно топчут песок уединенных островков, те, кого рано или поздно с визгом и скрежетом умчат по бетонному шоссе железные демоны.
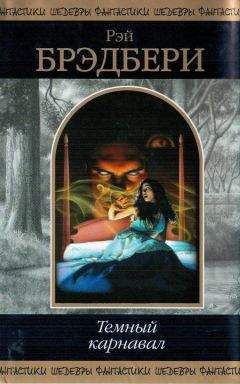
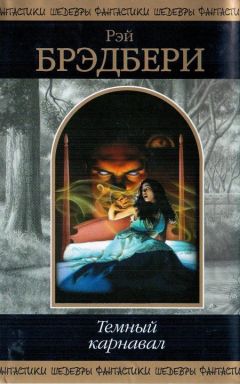

![Рэй Брэдбери - Тёмный карнавал [переиздание]](/uploads/posts/books/121260/121260.jpg)
