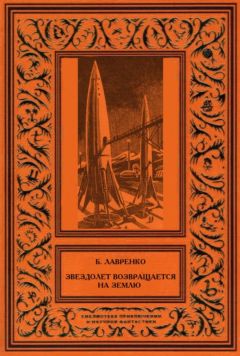Ольга Вешнева - Огрызки эпох
Воспитанную на бульварных романах глупышку восхищали мои философские рассуждения. Ничего в них не понимая, она считала мое стремление изменить мироустройство признаком незаурядного ума. Я был для нее идеалом образованного человека.
Кроме платонической любви невинной барышни, была в моей жизни и плотская, горячая, неукротимая страсть.
Когда в жаркие летние дни Лабелино замирало для послеобеденного сна, я торопился на свидание с красавицей Дуняшей, стройной молодой крестьянкой с русой косой до пояса и васильковыми глазами.
Знаю, что Вы сейчас подумали, дорогой читатель — «Банальная история. Всевластный в своем поместье барин насильно склонил к сожительству несчастную крепостную рабыню». Всецело убежден, что не могли Вы представить сюжета прямо противоположного. Сюжета о несчастном барине, соблазненном «рабыней».
Я долго не замечал Дуняшу, не различал ее среди крестьянских девок, мельтешащих в деревнях и на полях, к которым был вполне равнодушен. Узнав однажды при ближайшем рассмотрении, что она отлична от подружек красотой, я выделил ей пару строк в стихотворении о летнем луге, не более того. И снова позабыл о ней — мне надо было срочно отвечать на письмо Герцена.
Переписка с мятежниками, ссыльными, опальными философами и литераторами не давала мне закиснуть в сельской безмятежности подобно капусте в деревянной бочке. Находясь вдали от Петербурга, я продолжал участвовать в деятельности тайного общества, выстраивать схемы великих свершений.
Но скоро Дуняша разведала все мои маршруты и стала чаще попадаться на глаза. Еду на охоту — она с подружками собирает ягоды в лесу, выхожу прогуляться по росе, свежим воздухом для вдохновения подышать — она спешит с колодца, да еще будто невзначай то ведерко посреди дороги обронит, то с плеч ее слетит платок… А на церковной службе, которую я, скучая, выстаивал в угоду родителям, Дуняша встанет точно напротив меня по левую сторону аналоя, как женщине положено. И смотрит, смотрит до самого причастия. И крестится, и кланяется, а все на меня косит нескромно так, греховно… Невольно обратишь внимание.
А раз я ехал полем, удирая от грозы, и вижу — среди приглаженной порывистым ветром пшеницы стоит она, как ведьма — волосы по ветру разлетаются, платье задирается выше колен. Грохочет гром, впиваются в далекий горизонт молнии, уносит жаворонков ураган. Дуняше все нипочем, она заливается демоническим смехом и подставляет ладони первым каплям дождя.
Эффектная картина, подумали Вы. А я, признаться, испугался за нее и побежал в пшеницу, таща за собой упирающегося Данта.
— Поехали. Я довезу тебя до дому, — я потянулся к Дуняше, но она ускользнула, закружилась, раскинув руки.
— Я грозы не боюсь! — озорно воскликнула девушка, — Убегу от нее, коль подойдет. И от тебя убегу, барин. На коне не догонишь.
— Безумная! — мне стоило большого труда удержать Данта, испугавшегося раската грома. Он чуть не повалил меня в пшеницу.
— От тебя без ума, голубчик, — крепкая загорелая рука Дуняши перехватила уздечку, — Тише, скакунок, тише, — девушка погладила коня по взмыленной шее и морде, помогая мне успокоить его, — Погляжу на тебя и теряю головушку, сну лишаюсь, работа валится из рук.
Развевающееся золотистое «знамя» ее мягких волос хлестнуло меня по лицу.
Я шагнул назад, не отпуская уздечки.
— Космы подбери.
— Как угодно тебе, барин. Скакуна держи крепче, чтоб к волкам в лес не ушел, — Дуняша сняла с широких плеч косынку и повязала ее на голове.
— Ну теперь ваша светлость довольна? — она присела с поклоном и, подпрыгнув, громко рассмеялась.
Я почувствовал, что редкий дождь прекратился. Сверкнула ослепительная молния, озарив вспышкой темное небо.
— Садись на коня и поехали в деревню, — приказал я.
— А ты подсади меня, барин, чтоб мне ногу не подвернуть.
И моргнуть я не успел, как Дуняша оказалась у меня на руках.
— Ах, какой ты хороший, барин… — улыбнулась она, скользя шершавыми пальцами по тщательно выбритому моему лицу. — Какой беленький, гладенький. Нежней лебяжьего перышка твои поцелуи. Усами не защекочешь, бородой не заколешь, синяков не посадишь. Как нужны мне твои бархатные уста, не жить мне без них. Сто раз каялась пред батюшкой Афанасием в любви к тебе, сто раз зарекалась не глядеть на тебя с вожделением, а на сто первый раз не покаюсь. На сто первый раз согрешу.
Я не выдержал искушения…
Гроза прошла стороной, но в душе моей разразилась буря.
Без дикой неукротимой любви Дуняши я ни дня прожить не мог. Искал с ней встречи, бегал к ней огородами, на практике применяя навыки армейской маскировки.
И все же я попался. Мозолистые руки стащили меня с сеновала, вырвали из жарких объятий Дуняши. Обернувшись, я чуть не умер от страха — надо мной стоял кузнец Гаврила. Его я и прежде интуитивно побаивался. Вид его внушал ужас: он был высок, широк в плечах по-богатырски, нос и щека были изувечены ожогом. Неухоженная растрепанная борода топорщилась выцветшей соломой. Сальные русые патлы свисали до плеч. Кузнец жил бобылем на окраине деревни, и часто становился участником мужицких потасовок. Соперникам приходилось туго от его пудовых кулаков.
Меня спас высокий статус. Кузнец не осмелился поднять руку на господина, но смотрел на меня истребляющим взглядом, так что я всерьез начал опасаться тайной мести с его стороны.
На следующий день отец вызвал меня в свой кабинет «для серьезного разговора».
Он долго ругал меня, называя распутником и подлецом, недостойным ношения славных фамилий благодетельных предков. Ревел, словно разбуженный загонщиками медведь в зимней берлоге.
— Ну и позор, Боже мой, ну и позор, — стонал он, приложив тыльную сторону ладони к своему побагровевшему лбу, а другой рукой опираясь на спинку кресла, — Я отправил тебя в Петербург, чтоб ты настоящим дворянином стал — честным, благородным. Чтоб ты ума набрался в столице, а не разврата. Но, видать, отпустил тебя в самое пекло. Моя в том вина. Моя. Ой, Господи.
Отец схватился за сердце, опустившись в кресло, и я испуганно подбежал к нему.
— Не трогай меня, бесстыдник! — рявкнул он. — Хуже сведешь в могилу. Ты попрал вековые устои нашей славной семьи. Опозорил нас с твоей матерью на всю губернию. Да, по городам и весям слухи скачут резвее почтовых лошадей. Вскорости вся губерния будет о том судачить, как непутевый сын князя Подкорытина совратил крепостную девку. Над нами смеяться будут на губернаторских балах. А над тобой тем паче. Да тебе, как видно, все равно.
— Ничуть не все равно, отец. Я огорчен, что навредил вас с матушкой по неуемности чувств, — я воспользовался короткой паузой. — Не думал, что так выйдет.