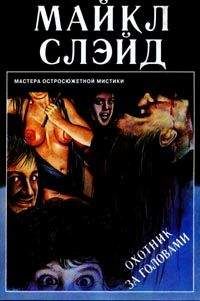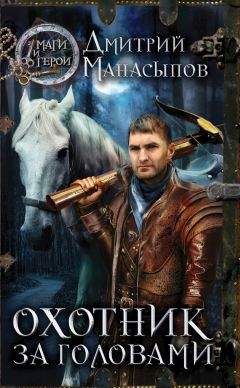Охотник за головами (ЛП) - Каррэн Тим
— Сраные гуки, вот кто, — проговорил Лейтон, словно прочитав наши мысли. — Ну, поверьте мне, да, чёрт подери, придёт день расплаты. Ублюдки-мясники...
Мы со Смоуксом стояли там ещё долго, с сигаретами в зубах, даже после того как унесли тела, и мы остались одни. Какой-то сержант велел нам уходить спать — они мертвы, и это ничего не значит, ясно? Ничего не значит.
А вокруг нас ночь ползла, извивалась и плясала зловещими, призрачными тенями, касаясь нас, обтекая и тянясь к нам цепкими чёрными пальцами. Всю ночь мы слышали крики северовьетнамцев, молящих о помощи или смерти, и гадали — кричат они от ран или потому что какая-то безымянная тварь их учуяла и подбиралась к ним.
На рассвете мы обнаружили кое-что интересное.
Не конкретно мы со Смоуксом, а отделение, патрулировавшее периметр.
Они вывели нас туда показать, хотя место было чрезвычайно опасное. Но даже северовьетнамцы в тот день сидели тихо, и я всё думал — почему. От миномётного окопа тянулись следы, вдавленные в мягкую красную глину. Огромные отпечатки, такие же, как те, про которые Куинн говорил, что видел в горах над деревнями горцев. Они были настолько большими, что я мог поставить в них свой ботинок — одиннадцатого размера — а Смоукс мог пристроить свой ботинок рядом с моим. От пятки до носка семнадцать дюймов, и вдавлены глубоко. В них чернели комья земли, кишащие опарышами.
Ни один человек на свете не мог оставить такой след.
Но что бы это ни было, я видел только следы от миномётного окопа к периметру. Дальше — ничего, словно эта тварь перепрыгнула через мешки с песком и колючую проволоку, мины и растяжки, прямо до вьетнамских траншей.
— Тот, кто оставил эти следы, был чудовищно тяжёлым, — сказал один из морпехов сухим, настороженным голосом. — И что бы это ни было, оно кишело червями.
Я смотрел на эти спутанные холмы и лощины, на эти густые, всё скрывающие джунгли и думал — какой сбой эволюции мог породить такое существо.
10
После этого я неделю провёл в Сайгоне.
Сидел в основном в гостиничном номере, пытался писать и много пил, но больше ничего не делал. Мой разум был заполнен детскими образами огров и лесных демонов, чудовищ и троллей, что прячутся в тёмных лесах, вечно голодные до человеческой плоти и детского мяса.
Всё начинало складываться — по крайней мере, в моём воспалённом мозгу — и мне не нравилась общая картина. Мысли о перестрелках и терактах, артиллерийских обстрелах и мешках для трупов стали теперь обыденными. Тот жуткий ореол, что когда-то их окружал, исчез. Я думал о вещах куда более страшных и, возможно, ненавидел себя за эти мысли. Но какой у меня был выбор? Я был законченным агностиком, собирателем историй, жизней и трагедий. Я всегда сохранял непредвзятость даже к самым необъяснимым происшествиям, но никогда по-настоящему в них не верил; просто записывал их, не особо задумываясь.
А тут я начал размышлять.
Сперва прикинул, что знаю. Негусто. Какая-то полоумная сука в занюханной деревушке (Бай Лок) несла чушь про «охотника за головами», она ещё выдала Ак куи ди сан дау — типа «дьявол, охотящийся за головами». Обычная деревенская байка, какими местные друг друга стращают. Ладно. Потом Куинн рассказал, как сам в это поверил, мол, следы видел, может, даже самого охотника как-то заметил. Я Куинну верил. Он был настоящим сукиным сыном, прирождённым воякой, но только не выдумщиком. Не лжецом. Потом была заварушка с четвёртым подразделением — та ещё веселуха вышла — и пока мы ждали эвакуации, какой-то салага съехал с катушек, давай палить, орёт, что видел здоровенного урода, крадущегося вдоль периметра. Потом был этот отмороженный сержант-мясник из 173-й бригады, Бриджес, и его история про головы на кольях. У Бриджеса совсем не было чувства юмора. Он жрал вьетконговцев на завтрак и срал в глотку дяде Хо просто ради забавы. Если такой говорит, что что-то видел, я склонен верить, и только потому, что я очень хорошо знал подобных ребят — эти сказки травить не будут. Потом был Кхесань. Кхесань с историями о разведгруппах, найденных без башки в джунглях. Кхесань, где я своими глазами видел тех обезглавленных морпехов. И да, Кхесань, где я сам видел следы, тянущиеся от минометной позиции к периметру, где они, мать их, просто взяли и исчезли.
Вот и все факты.
Хватит ли этого? На самом деле хватит? Нет, говорил я себе. Я то и дело подходил к зеркалу и пялился на это измождённое, небритое, опухшее от беспробудной пьянки отражение, видел циничную ухмылку на роже и начинал ржать. И только отведя взгляд от этих глаз, своих собственных глаз, я проглатывал всю эту хрень и снова начинал верить.
Потому что я верил во многое, во что верить не следовало.
Я верил в призраков. Вьетнам был ими нашпигован. Как у Куинна с его горцами и их безумной телепатией и предвидением, у меня было своё шестое чувство. Когда проводишь достаточно времени с мертвецами, особенно с теми, кто сдох насильственной смертью, начинаешь их чуять. Люди, погибшие в бою, просто так не уходят, они как бы зависают. После перестрелки я несколько дней видел мертвяков, а когда не видел, то чувствовал — они плавали вокруг меня холодным туманом. Когда я только прибыл во Вьетнам, меня закинули в долину А-Шау со 101-й воздушно-десантной. После одной особо поганой заварушки, где меня впервые окатило кровищей и я на своей шкуре прочувствовал, насколько мерзкой бывает смерть, я летел в вертолёте, набитом трупами в плащ-палатках. Только я, пилот и бортстрелок. Когда мы поднялись из долины, а пули вьетконговцев барабанили по брюху «Хьюи», в салон ворвался ветер, и плащ-палатки захлопали, открывая лица мёртвых. Бортстрелок заорал:
— Накрой эти грёбаные рожи, не хочу, чтоб они на меня пялились! И слышать не желаю, что эти мертвецы там бормочут!
Безумие. Но чистая правда.
Как и с призраками, я не мог въехать в эту историю с охотником за головами. Хотя на войне вообще мало что имеет смысл. Нельзя мерить военные дела мирной логикой. Не прокатит. Поэтому я крутил всё это в башке час за часом и понял одну штуку: чем дольше пялишься на что-то, тем больше оно смахивает на что-то совсем другое.
На второй день после возвращения нарисовался Кай.
Кай был четырнадцатилетним вьетнамским пацаном, который приглядывал за моими комнатами и барахлом, пока я мотался по заданиям. Кай был тёртым калачом. Прожжённый уличный пацан, который как рыба в воде плавал среди акул чёрного рынка и мог достать что угодно, только свистни. Он крутил карточные игры, толкал травку солдатам и был как моя правая рука. Больше всего на свете он мечтал свалить в Америку и заделаться диск-жокеем. У него была зачётная коллекция пластинок, и он знал наизусть все песни — от Джоплин и Хендрикса до The Doors и Country Joe and the Fish.
Он заявился ко мне с бутылками японского пива, блоками сигарет и пачкой старых номеров «Плейбоя», перетянутых резинкой и засунутых за пазуху. В Сайгоне, где уличная шпана могла спереть не только бумажник, но и авторучки, и даже пуговицы с рубашки, Кай ходил среди них неприкасаемым.
Обычно этот пронырливый пацан со своими бесконечными схемами сыпал историями и шутками, которых нахватался от морпехов и десантников. Но в тот день он был бледный как полотно. Выложил принесённые для меня вещи, я расплатился, и от меня не укрылось, что вид у него был затравленный — он трясся и подпрыгивал от каждого шороха.
Я спросил, что случилось, и он рассказал о странных вещах, приключившихся, пока я был в Кхесани. Поднялся проверить мою квартиру, а на двери что-то намазано, здоровенные комья грязи, говорит, а в них копошатся живые черви. Начал отмывать, и тут его накрыло ощущение, что он не один... хотя в коридоре пусто. Так и застыл с грязной тряпкой, вслушиваясь. И слышит — что-то приближается из-за поворота: шаркает, волочится, хрипло и рвано дышит. Говорит, несло чем-то тошнотворным, как от давно сдохшего животного, как от чего-то, что протухло в закрытом ящике. А потом, что бы это ни было, оно просто исчезло.