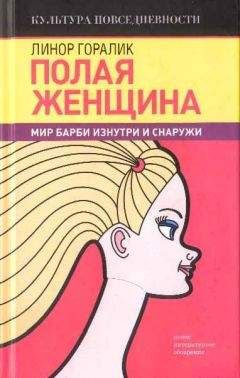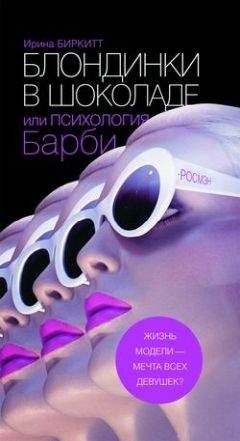Барби. Часть 1 (СИ) - Соловьев Константин Анатольевич
— Ох, дьявол, — только и пробормотала она, глядя куда-то за кафедру, — Дьявол и сто сорок тысяч блядских чертей…
И это тоже было плохим знаком. Котейшество не ругалась, по крайней мере, на принятом в Броккенбурге остерландском наречии. Если на нее и накатывало желание отпустить крепкое словцо, она использовала итальянский или французский. Но сейчас, кажется, была слишком потрясена, чтобы перебирать.
Барбаросса проворно оттащила ее в сторону, вытаскивая платок. Надо вытереть эту дрянь с ее колета, пока та не впиталась, ни к чему пропадать хорошей вещи. И не только это. Барбаросса закусила губу. Придется разыскать новую банку для профессорского ублюдка, раз уж он был так неосторожен, что расколотил свою прежнюю. Дьявол, а ведь это было не венецианское стекло, а толстый вальдгласс[15] полудюймовой толщины!
— Барби…
Взгляд Котейшества заставил ее замереть, так и не вытащив платка.
— Все в порядке, Котти. Сейчас я достану этого заморыша и… Где он?
— Там, — она указала пальцем и палец этот дрожал, — Он там, Барби. На полу.
Барбаросса перегнулась через кафедру и…
— Сто сорок тысяч похотливых чертей, — только и смогла пробормотать она, — И сорок обозных блядей сверху!
Серый комок в углу, на который она сперва не обратила внимания, и был Мухоглотом. Его крохотное тельце, искромсанное лопнувшим стеклом, едва шевелилось, напоминая не то умирающую птицу, не то шевелящуюся на ветру серую ветошь. Разбухшие ручонки слепо царапали пол полупрозрачными пальцами — едва ли в попытке помочь телу подняться, сил в их несформировавшихся мышцах было недостаточно для этого — скорее, в предсмертной агонии. Рассеченная надвое грудная клетка всхлипывала, обнажая тончайшие ребра, похожие на рыбьи кости, и какие-то полупрозрачные влажные лоскуты, розовые и серые, трепещущие внутри. Полусросшиеся челюсти Мухоглота задергались, точно он пытался что-то сказать, между ними мелко по-змеиному задрожал крохотный язык, наполовину растерзанный его собственными зубами. Большие глаза гомункула глядели куда-то выше Барбароссы и Котейшества, но злости в них уже не было. Было что-то задумчивое, почти мечтательное, совершенно не свойственное им при жизни.
Барбаросса встрепенулась, не зная, куда броситься. За новой банкой? Нет питательного раствора, но можно наполнить ее дождевой водой из бочки, на первое время сойдет. За бинтами? Где взять бинты, достаточно тонкие для того, чтобы перевязать гомункула? И можно ли вообще перевязать его раны? А какие лекарства могут остановить кровь? Дьявол! Искусство создания гомункулов они проходили на втором круге, но Барбаросса с ужасом обнаружила, что почти ничего не помнит из этой области алхимии. Остались только какие-то невразумительные клочки — Парацельс, магнетизация, триместры вызревания плода…
А потом гомункул издох. Слабо выдохнул, напоследок щелкнув многочисленными зубами, и выпрямился на полу, жалкий, крохотный и влажный, как дохлый цыпленок, покрытый пигментными пятнами старости и блеклыми следами растяжек. Темные глаза, покрытые сеточкой катаракты, потускнели и съежились.
И только тогда Барбаросса поняла, в каком дерьме они оказались.
Не просто гомункул — профессорский любимец. Питомец самого профессора Бурдюка, растерзанный, точно сворой диких лисиц. Лежит на полу в лекционной зале, истекая прозрачной слизью. Херовая картинка, Барби. Паскудная — хуже тех порнографических гравюр, которые прятала в своих многочисленных тайниках Холера. Хуже не придумаешь. Хуже может быть только пригласительный от самого Сатаны на ежегодный бал.
Не зная, зачем это делает, Барбаросса наклонилась к выпотрошенному гомункулу и подняла его свернутым носовым платком. Он не только казался легким, как сопля, отрешенно подумала она, не зная, куда его деть, он и весил как новорожденный мышонок. Жалкая тля в стеклянной банке, погибшая нелепо и по странной прихоти судьбы.
Волк всегда остается волком, даже если обрядить его в ливрею с гербом, припудрить и умастить розовой водой. Барбаросса еще не успела толком сообразить, что происходит, а ее инстинкты, беззвучно вынырнув из непроглядных глубин, уже приняли на себя контроль на растерянно застывшим телом и мятущимся, как мотылек, рассудком.
Первым делом надо убедиться, что зала пуста. И верно — пуста. В университете Броккенбурга до хера соблазнительных местечек, где можно приютиться после занятий, но кафедра спагирии к таким не относится — слишком уж едкие здесь царят ароматы для желающих раздавить тихонько бутылочку или потискать друг друга за пёзды, спрятавшись за партами. Никого нет — уже лучше. Второе — гомункул. Чтобы не держать его в руках, Барбаросса отошла к окну и положила невесомое тельце в вазон с молочаем. Позже она уберет его — сожжет в ближайшей печи или закопает под окнами, в университетском палисаднике. Впрочем… Глядя, как стремительно сереет и истончается старческая кожа Мухоглота, Барбаросса подумала, что похороны, пожалуй, могут и не потребоваться, того и гляди он сам разложится в тлен у них на глазах. Третье — прочие следы. Убирать лужу питательного раствора платком не получилось бы, поэтому она просто стерла потеки с кафедры и мебели. Осколки она быстро и сноровисто собрала в тот же платок и завязала узлом, благо их не пришлось долго искать. Уже получше.
Котейшество всхлипнула. У нее не было нужных инстинктов, как у Барбароссы, позволявших мгновенно перейти к действию, все это время она стояла посреди залы, прижав руки к груди, бледная как свернувшееся молоко. Даже лучшие из ведьм иной раз оказываются в чертовски сложном положении, когда от их таланта не зависит ровным счетом ничего.
— Какой ужас, Барби…
— Спокойно, Котти, это всего лишь хренов гомункул. Кукла из плоти, ничего больше.
— Любимая кукла профессора Бурдюка, — прошептала Котейшество, — А я убила его.
— Черт, ты не убивала его! Несчастный ублюдок сам уронил свою банку, мы обе это видели.
— Я разозлила его. Если бы не я…
Барбаросса стиснула кулаки. Когда-то это позволяло ей собраться с силами. Ее кулаки сами по себе были силой, и чертовски грозной, заставившей с собой считаться многих самоуверенных сук в Броккенбурге. Но сейчас и они были бесполезны — просто куски плоти, пронизанные костями.
Это она раздразнила Мухоглота, измываясь над ним в ожидании Котейшества. Это она привела его в бешенство, не предполагая, что он прицепится к Котти. Она заставила его взбеситься от злости, не думая о последствиях.
— Ты… ты можешь его оживить?
Котейшество бросила взгляд по направлению к вазону с молочаем.
— Нет.
— Совсем никак? Какие-нибудь чары, какие-нибудь…
— Он мертв, Барби. И уже разлагается.
— А как же твой Флейшкрафт?
Котейшество вяло дернула плечом.
— Флейшкрафт — магия плоти. Он не в силах возвращать жизнь в ту плоть, что уже мертва.
— А как же твои катцендрауги? Их-то ты возвращала?
Она покачала головой.
— Они были еще живы, когда попадали ко мне. С мертвыми я ничего поделать не могу.
Херово, подумала Барбаросса. Почти так же херово, как заявиться в трактир, где пирует вражеский ковен, без привычных кастетов и ножа за голенищем. Даже немножко хуже.
Бежать? Этот вариант она не предложила Котейшеству, сама откинула как бесполезный. Дверные демоны здесь, в университете, выдрессированы на зависть, они неуклонно ведут учет, кто и когда входил в лекторий и сколько в ней пробыл. И дело не спихнешь на растворившееся от порыва ветра окно, которое опрокинуло банку. Она успела уничтожить самые явные следы, но без сомнения оставила множество мельчайших улик, которые укажут на нее явственнее, чем палец мертвеца, украшенный нужными рунами и надлежащим образом заговоренный, на его убийцу.
Херово, сестрица Барби. Крайне херово.
Можно уверять себя, будто все в порядке, все под контролем, но зудящие под кожей инстинкты, вечно голодные и злые, как свора бродячих псов уже твердят — не будет. Не будет ни прогулки по скверу, ни мятных тянучек, ни украдкой выпитого в бурьянах мозельского вина. Ничего хорошего этим блядским днем в Броккенбурге уже не случится, а случится только что-нибудь паскудное, недоброе и злое.