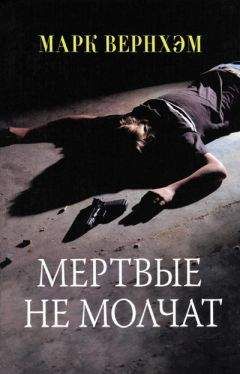Александр Данковский - Папа волшебницы
И мы пошли. За вторым поворотом нам открылось здание — и Дрик тихо охнул, а я про себя проговорила что-то не слишком приличное. ЭТО походило на что угодно, только не на замок, не на форт, не на крепость. Вообще ни на что не походило… Фантазия сумасшедшего архитектора, которого не взяли в клоуны. Эдакий арбуз, с боков приделаны греческие портики в количестве примерно семи штук, так что получался многогранник с колоннами. Все портики разные по ширине, а некоторые — и по высоте. Колонны тоже разные — то толще, то тоньше, то выше, то ниже, округлые и граненые… От углов многогранника вниз по склону холма, который оседлало это архитектурное страшилище, ползли извилистые каменные галереи со сводчатыми кровлями. В итоге здание напоминало осьминога, который выполз погреться на вершину рифа и свесил вниз щупальца. А главное — вся постройка была выкрашена в два цвета — черный и золотой. От вершины купола вниз ползли расширяющиеся полоски, что еще увеличивало сходство с арбузом. Раскраска проходила и по портикам, деля их на неравные цветные части. А щупальца у корней были поперечно-полосатыми, словно осьминог состоял еще и в дальнем родстве с шершнем. Правда, потом галереи приобретали обычный серокаменный цвет.
— Нравится? — спросила меня Тетка.
Она и впрямь считает, что это может нравиться?
— Впечатляет, — осторожно ответила я.
Дрик как-то странно глянул на меня. По-моему, что-то хотел сказать, но раздумал.
Глава 15. Бег времени
— Подходи, дорогой, гостем будешь. Рыбки, правда, почти нет, — Сайни выпрямился, чуть сбросил мышечное напряжение, но расслабляться полностью не спешил. Словно лучник сперва растянул тетиву до уха, а потом приотпустил до половины, не снимая стрелы. Если что, выстрелить можно почти мгновенно, а руки не так устают.
— Не узнаешь? Я — Лиимас. Никосу Лиимас.
— Никосу?!
Вот теперь Сайни его узнал. В общем, не было ничего особо удивительного в том, что рядом с одним его старым знакомым обнаружился другой. Но то, как Лелек произнес имя… Вероятно, не просто знакомый. Чуть ли не бывший друг, которого Сайни считал погибшим. Меня, естественно, в подробности посвящать не стали.
Мой спутник подбросил в костер хворосту и обломков тростника, чтобы стало чуть светлее. И я принялся рассматривать гостя, пока тот ел остатки рыбы. К слову, Лелек соврал — каждую из рыбин мы обглодали чуть больше, чем на две трети, оставив немного на скудный завтрак. Так что еще одному человеку как раз хватило закусить. Ну, не человеку в узком смысле — эльфу. А они покрупнее будут, так что и едят поболе. Этот же даже среди эльфов числился бы дылдой. Два десять — два пятнадцать, как пить дать. Мосластый, отнюдь не красивый, с черепом, туго обтянутым тонкой пергаментной кожей. Впрочем, в неверном свете костерка любое лицо маской смерти покажется. Ел молча и очень аккуратно, без усилий разрывая жесткое мясо сильными кистями. Не мощный, но сильный — примерно так. Непонятно? Ну, мощным кажется какой-нибудь трактор или слон. А сильным — скаковой жеребец. Сухой, подтянутый, напряженный.
Никаких острых ушей, никаких мощных ассиметричных луков за плечами и прочего экзотического оружия. Только на бедре в ножнах небольшой нож — широкий, тяжелый, но не слишком длинный. Скорее, инструмент, чем средство отнятия жизни. (Хотя здешние эльфы, насколько я знал по опыту, полученному в университетском городке, с луками забавляться таки любили — высокий рост и длинные конечности способствуют.) Одет… Не знаю, во что одет. Какая-то серая бесформенная хламида, но с рукавами. Словно рубаха, сшитая по тому же принципу, что шаровары — "ткани не жалеть, движений не стеснять". Но заинтересовала она меня совсем не фасоном. В свете костра ткань все время чуть меняла цвет, каждая складка переливалась разными оттенками серого, словно в ветреный день тени от листьев скользили по поверхности речной заводи. И очертания самого эльфа скользили, размывались… Плюс двигался от с той же водной плавностью. Завораживающе и пугающе.
Пока он ел, все молчали. Я, было, подумал, что это ритуал какой у местных вояк. Типа преломления хлеба. Доев, Лиимас без всякого перехода, буднично как-то выдал:
— Уходите отсюда. Как можно скорее. Я помогу.
— Никосу, погоди, — обычно практичный и собранный Сайни, кажется, растерялся. — Объясни, в чем дело. И вообще, расскажи, как ты, откуда… Я же тебя в мыслях уже похоронил.
— Не буду. Не буду ничего рассказывать. Уходить вам надо. И правильно сделал, что похоронил. Мы все тут — живые мертвецы.
О-па! Только зомби мне в здешнем паноптикуме не хватало. Я как-то Дмииду рассказывал об этом порождении фантазии то ли наших предков, то ли наших литераторов, и он, помнится, долго потешался. Дескать, законов природы магия не отменяет. И если мышца мертвая, да еще и давно, то никак не сможет она двигаться. Покойник — он покойник и есть, и никакой магической энергии не содержит. И на тебе!
Лелек этого термина-оксюморона вообще не знал и потребовал объяснений:
— Пока не расскажешь, никуда не пойду.
— Тебе же хуже, — мрачно ответил эльф. Помолчал пару секунд и продолжил:
— Сайни, пойми, я уже совсем не тот парень, которого ты знал десять или около того лет назад. Только имя и внешность остались, и то не полностью. Ладно, ты-то, кажется, не слишком изменился, так что слушай…
Примерно восемь из каждых десяти тех, кто служит Реттену — живые мертвецы. То есть человек уже должен был умереть — от болезни, от раны, просто от старости. А Реттен на время его смерть отсрочил. Взяв взамен что-то вроде клятвы. Так что каждая минута жизни — в его руках. Это одна из недобрых тайн, которые он вырвал у здешних мест.
— Постой-постой. Заклинание отложенной смерти?
— Не знаю. Я ведь не ученый.
— Ну, в легендах о Бали Полумертвом?
— А, то, что ты нам как-то у костров рассказывал?
— Оно самое. Это ведь известная книга…
— Я, знаешь, книг не читал и в прошлой жизни… — эльф осекся. — Но похоже. И жил этот твой Бали, если не путаю, как раз на север от наших мест. Стало быть, где-то здесь.
Короче, уйти далеко отсюда мы не можем, каждой лишней минутой обязаны Реттену. Так что житуха это скверная. Ни радости в ней, ни даже горя большого… — он помолчал. — Знаешь, как иногда старики ненавидят молодых, а безнадежно больные — здоровых? Завидуют и ненавидят. Вот и ненависть живых мертвецов к живым из этого же ведра разлита. Полной мерой.
— А ты почему же со мной разговариваешь? Предупреждаешь?
— Потому что память это заклятье все равно не отшибает. А я помню тебя. И как мы друг дружке жизнь в южных болотах спасали, и как ты меня из-под Бренной Башни выволок, сам со стрелой в ноге. А еще — дочка у меня осталась. Там, — он махнул рукой на юг, в сторону, откуда мы пришли. — Вот не хочу я ей такой судьбы. Уйдете — глядишь, донесете весть о том, что тут Реттен поделывает. Кто-то ему поперек дороги и станет. Останетесь — сами в те же сети угодите. Так что нелюбовь моя к Реттену сильнее зависти к живым. Впрямую навредить ему клятва не дает. А так, через вас — глядишь, и выйдет что. Ну а смерть — так мы с тобой столько под ней ходили, что не пугает она уже особо. Ну, помру так помру, так хоть знать буду, чего помираю, — и он вдруг расхохотался. Шелестящим таким, кашляющим смехом.