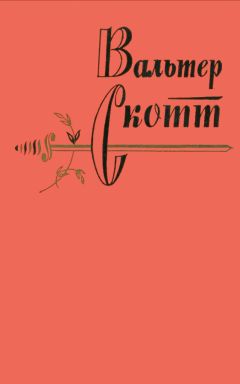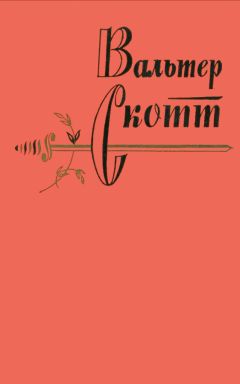Мария Теплинская - Короткая ночь
— Ну вот еще! — вскинула головку сестрица. — Стану я с порченой разговаривать! Я — не ты, я свою честь берегу, — в устах девчонки, которой едва сравнялось десять лет, этим слова прозвучали немного смешновато.
— А вот ты, братец, — продолжала она, — о доме нисколько не думаешь, всех нас на позор выставляешь! Андрейке вот глаз подбили, а за что? За то лишь за одно, что он твой брат! И я… и мне ведь замуж идти, а ведь не возьмет хороший жених… оттого, что брат у меня с лиходеем дружбу водил…
И тут Агатка тоненько и жалко расхныкалась, как всегда делала, когда хотела подвести под расправу братьев или что-нибудь выклянчить.
Однако Вася, обычно столь сердобольный, не терпевший детских слез, теперь словно с цепи сорвался. Железными пальцами схватил он сестру за плечо и встряхнул, как упрямую грушу.
— А ну цыц! — рявкнул он. — Выть она мне еще тут будет!
— Мамо! — истошно взвизгнула девчонка.
— Василю! Ты что это? — вскинулась мать.
— Теперь он, значит, лиходей? — еле выговорил, задыхаясь от гнева, Вася. — А как тот лиходей для тебя лодочки из щепок вырезал — позабыла? И как он через омут за купавками для тебя плавал — тое не помнишь? А пчелу у тебя из косы кто выпутывал, покуда ты верещала, як свинья недорезанная? Честь у нее, мать вашу! Дрожат все над своей честью, что тот Кащей над грошами! И коли я за ту честь должен лучшего друга продать, в беде покинуть — стало быть, не честь это, а подлость! Да, подлость! И скажите мне, что нет, попробуйте!
— Что за шум, а драки нет? — спросил, входя в хату, отец.
— А то, что больно все честные кругом! — продолжал бушевать Василь. — Одно худо: не тех честят! Вон тот же Макар: с половиной деревни в лозняке перевалялся, да еще по другим селам у него каханок сколько…Отчего же в него никто не плюет да пальцем не тычет? А Яську моего бедного… Ну кому он что худого сделал, кому чем не угодил? Кто от него что видел, кроме добра?
Геля бросила тревожный взгляд на мужа, опасаясь, как бы ее Роман не сказал лишнего. Она и сама пристыдила бы сына, да вот беда: Васе было известно про то, что они с Романом были близки еще до венца. Случилось это, правда, уже после церковного оглашения и всего за неделю до свадьбы, так что никаких трагедий за собой не повлекло. Однако теперь Геля боялась, что муж начнет бранить сына за дружбу с изгоем, и уж тогда Василь не постыдится помянуть ему про тот давний грех.
— Э, да вы, никак, тоже все про Леську в бурьяне? — догадался Роман. — Все село о том гутарит. Ну, хороши!
Но тут, мельком взглянув на жену и увидев смятение в ее глазах, тоже, видимо, вспомнил былые времена и пылкую свою молодость.
— Ну да Бог с ними, хай сами разбираются! — махнул он рукой. — Садитесь лучше завтракать.
Привычно помолясь, они сели за стол. Василь медленно черпал зеленую лапеню (лебеда, сныть да щавель, забеленные простоквашей), заедая краюхой черного хлеба и все еще сторожко поглядывая вокруг. Нет, как будто бы ничего, гроза прошла мимо. И мать, и отец глядят мирно, будто и не было ничего. Только Агатка сидела надутая, на весь белый свет разобиженная, да кому до нее какое дело?
Лесю он встретил только после полудня. Зато с утра вся Длымь обсуждала ее новые похождения. Вася узнал, что она повздорила с бабами на прополке, а когда они прогнали ее с поля, убежала в перелесок, и с тех пор ее никто не видел.
— Да где ж ей и быть? — пожала плечами Доминика, когда Вася ее об этом спросил. — В лесу, верно, где-то хоронится, на то она и Леська. Ничего, объявится, куда ей деваться? А не то на отмели ее поищи, коли уж так затребовалась!
На отмели Василь никого не нашел, а возвращаясь назад, увидел ее возле самой околицы. Она стояла, прислонясь к низкой городьбе, и о чем-то тихо говорила с Хведькой Горбылем, который неуклюже топтался перед нею. Васю они не заметили: девушка стояла к нему спиной, а Хведька не видел ничего вокруг, поскольку по обыкновению не сводил с нее обожающих глаз.
Едва взглянув на нее, Василь ощутил, как по спине у него пробежал мороз: до чего она все же девка безрассудная!
Порченым девицам полагалось покрывать волосы очепком, да не таким, как у замужних, а грубым, сурового небеленого холста. А у нее волосы были не то что не прикрыты — распущены. Еще не просохшие после купания, темным водопадом струились они вдоль спины, и от них веяло речной сыростью. И — о дерзость! — на голове у нее по-прежнему красовался тоненький налобный венец — знак девичества.
Вася увидел, как Хведька порывисто накрыл ладонью ее руку, лежавшую поверх низкой оградки. Леся мягко освободилась — узкое пястье легко выскользнуло из его ладони, словно золотистая рыбка.
— Ты же знаешь, я за тебя в огонь и в воду готов, — услышал Василь приглушенный Хведькин голос. — Христом-Богом клянусь: не помяну тебе никогда… Знаю, что скажешь: мамка моя тебя не примет, и Михал опять же… Да только не век же с нами тот Михал будет. И мамка в конце концов сдобрится, я ее знаю…
— А коли не сдобрится? — усмехнулась она.
— Все равно… В обиду тебя не дам, не журися.
— Спасибо, Хведю, — вздохнула она невесело. — Да только нет в том нужды.
— Как нет? — растерялся хлопец. — Куда ж тебе деваться: при таком-то позоре?
— А нет позору, Хведю, — ответила девушка.
— Да что ты несешь, опомнись! — ахнул Хведька, снова хватая ее за руку. — Ты хоть со мной-то не лукавь! Как так — нет позору? Вся Длымь гутарит, как тебя Янка ночью подстерег — али это не позор?
— Нет позора, — повторила она. — Не тронул меня Янка. А что по селу бабы язычат — так пес брешет, ветер носит!
— Но как же тогда? — бедняга уже чуть не плакал. — Ведь говорят же люди… Нешто врут…
— Стало быть, врут, — ответила Леся.
— А, знаю! — глаза его вдруг вспыхнули злобой. — Это ты е г о защищаешь! Да как же ты можешь? Он же гад, каких земля носить не должна, а ты…
— Не веришь — твое дело, — перебила девушка. — Было бы что — врать бы не стала, а и напраслину возводить тоже не хочу.
— Да что с тобой говорить! — хлопец безнадежно махнул рукой и быстро пошел прочь, повторяя пересохшими губами только одно слово:
— Гад, гад…
Леся осталась там, где и стояла, глядя куда-то в сторону. Василь тронул ее за плечо; она резко обернулась, ее густые длинные волосы взвихрились кругом, от них еще крепче пахнуло речным дурманом.
— А, так это ты? — бросила она. — Тебе-то что надобно?
Теперь она глядела ему прямо в лицо. Глаза ее из темно-карих стали совсем черными, и в них появился какой-то затравленный испуг.
— Ну, что же ты молчишь? — она всеми силами старалась держать себя в руках, но голос ее дрожал, словно туго натянутая струна, готовая вот-вот оборваться. — Ведь тоже знаешь, поди?