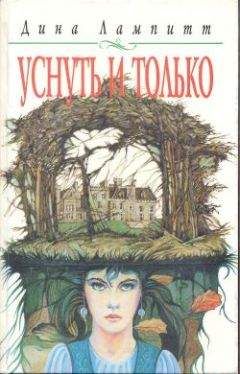Анатолий Герасименко - Тотем Человека
— Тим, — сказал Черный и взмахнул рукой. — Не вижу ничего… Тим?
— Привет, — произнес я. Честно говоря, это было все, что я готовился ему сказать.
— Привет, — сказал он. — Дай руку…
Я поймал его ладонь и сжал. От запястья до самого плеча по руке змеились красные линии, похожие на водоросли. Знаки молнии — вот как это называется. Знаки молнии.
— Живой, — сказал Черный и улыбнулся. Я хотел спросить, о ком он говорит — о себе или обо мне, но тут он перестал улыбаться и запрокинул голову. Я сказал: 'Черный', - но меня отодвинули в сторону, и кто-то в синей врачебной форме наклонился над Черным, а кто-то другой в синей врачебной форме стал копаться в своем чемоданчике, а кто-то третий в синей врачебной форме подкатил носилки. Черного подняли и положили на эти носилки, а я все звал: 'Черный, Черный' — и продолжал повторять его имя, когда помогал затащить носилки в машину, и потом, сидя в машине, все звал и звал его — пока не понял, наконец, что Черный меня не слышит.
Эпилог
В больницах всегда пахнет смертью. Даже в маленькой районной поликлинике — вотчине хирургов-алкашей и толстых медсестер — даже здесь кто-нибудь когда-то умирал. А если и нет, то здесь все готово к смерти. Каждая больничная койка мечтает стать катафалком.
У Саши я пробыл совсем недолго, она все еще была без сознания. Тем более, в палате круглосуточно дежурил Боб — а сейчас я был вовсе не нужен Бобу, Бобу раздавленному, Бобу смятенному, Бобу, скрывающему слезы. Да, Боб все время сидел у ее постели. И Мила. И еще какая-нибудь кошка — они все накачивали Сашу, денно и нощно. Как она тогда сказала, на кухне, за чашкой кофе, вечность тому назад? 'С этим умением никто не рождается. Такое возникает, если кошка очень-очень переживает, или ненавидит кого-то изо всех сил'. Легче всего ненавидеть тех, кого любил когда-то. Труднее — тех, кого ни разу не видел. Самое трудное дело — ненавидеть самого себя. Это на самом деле трудно. Конечно, в какой-то момент любой из нас чувствует к себе неприязнь. Даже отвращение. Меня поймет любой, кого с перепоя рвало в раковину. Когда в передышке между спазмами поднимаешь потное, забрызганное лицо и смотришь на себя в зеркало — это самое лучшее средство, чтобы стошнило еще раз. Глаза — как вареные, и серая, опухшая морда, и мерзкий, дряблый рот с ниточкой слюны… да, это — Отвращение с большой буквы. Но это — не ненависть, о, нет, даже в такой момент ты себя любишь, любишь изо всех сил, и мечтаешь, чтобы закончилась поскорее рвотная пытка, и ты, любимый, наконец, уснул и видел сны, быть может… Вот ведь в чем дело, ребята: любовь к самому себе — следующий шаг инстинкта самосохранения. Это помогает выжить в таких сложных ситуациях, когда троим надо прыгать из горящего самолета, а парашютов только два. Или, например, если корабль тонет, а шлюпок на воду успели спустить вчетверо меньше, чем нужно. Тут-то отступает на задний план все то, что называют 'человеческим': самопожертвование, героизм, отвага. На сцену выходит вечный инстинкт — любовь к себе. И побеждает. Если, конечно, не находится пара-тройка зануд, вооруженных автоматическим оружием, вопящих: 'Первыми идут женщины и дети'. Впрочем, опыт показывает, что для таких зануд место в шлюпке почему-то всегда отыскивается. Да, любовь к себе — это основной инстинкт, что бы там ни говорила Шэрон Стоун.
Но некоторые умудряются преодолеть этот могучий инстинкт.
Человек, который испытывает ненависть к себе, может прожить долгую, хоть и несчастливую жизнь. Сфинкс, который себя возненавидел — обречен. Сомневаюсь, что Саша выжила бы, если бы ушлый Боб заранее не вызвал к 'восьмой точке' машину 'скорой помощи'. Саше очень не повезло, катастрофически не повезло: одновременно дал о себе знать огромный полип в матке, и случилось прободение язвы желудка. Насчет язвы неудивительно — слишком много кофе, слишком много нервотрепки и слишком мало сна в последние месяцы. Но по женской части Саша, вроде, всегда была здорова… Страшное, наверное, это дело: когда предаешь все, что у тебя есть, ради одного человека, а потом этот человек предает тебя. Ненависть к себе — с этим умением никто не рождается, бедная моя названая сестричка.
Но у тебя все будет хорошо. О тебе исправно заботятся. Надеюсь, когда ты очнешься, то перестанешь себя ненавидеть. Ведь ты теперь ценный сотрудник Отдела. Мила сказала, что какой-то 'боров' готов 'все замять', что тебя ждет 'большая карьера'. Удачи тебе. Я всегда тебя любил, зеленоглазая. Мой дом — твой дом, заходи, когда хочешь, одна или с мужем. Теперь это просто: я ведь живу в одиночку и всегда рад гостям. Любым гостям. Даже сфинксу.
Палата Черного была в другом крыле больницы. Он лежал в ожоговом. Как только я отворил дверь, он вяло махнул перебинтованной рукой. Я принес настоящего бараньего рагу — зашел в ирландский ресторанчик неподалеку, попросил налить в термос. Мы немного помолчали, он о своем, я о своем. У нас с Черным никогда не выходило поговорить по душам — все больше вот так сидели, молчали. Впрочем, в этот раз он — лежал и молчал. Лишь под конец проговорил глухо, сквозь бинты:
— Динка тебе сказать что-то хотела.
— Вот пусть сама и говорит, — ответил я, и мы снова замолчали.
Какого черта, ребята.
Он был, наверное, единственным, кто понимал меня по-настоящему. Он так же, как я, умел ненавидеть. Так же, как я, знал подлинную цену ненависти. И, так же, как я, решил: больше никогда. Разница только в том, что я выбрал — быть человеком. Ну, во всяком случае, я это так называл… А он выбрал — молнию. Может, и правильно выбрал, если учесть, что та же молния сожгла Стокрылого. Дина сказала: если бы она не накачала Черного накануне, то конец пришел бы и ему. Но об этом я старался не думать. По ряду причин.
В конце свидания я вытряхнул Черному на одеяло подарок: плеер и десяток дисков. У него аж глаз загорелся — тот, что был виден из-под бинтов. Пальцами правой руки, которая уже немного его слушалась, он стал тыкать в кнопки плеера. В общем, подарок ему понравился — казалось, он и забыл о моем присутствии.
А я пошел домой.
Один.
Еще тогда, когда стало ясно, что Черный выживет, что ему ничего не угрожает — в конце концов, порой в людей попадают молнии, и хоть бы что — вот тогда-то я и сказал Дине: 'Выбирай'. И она кивнула, и даже поцеловала меня. То ли на прощание. То ли в знак благодарности. Она с тех пор каждый день бывала у Черного — я видел это по свежим цветам на столе, по мытым фруктам в вазе, по книгам из его дома. Я ведь тоже навещал его каждый день. Удивительное дело, но мы с Диной ни разу не встретились в больнице. Может, оно и к лучшему.