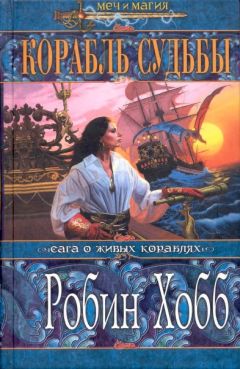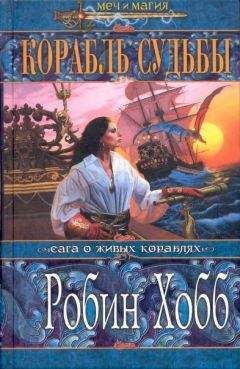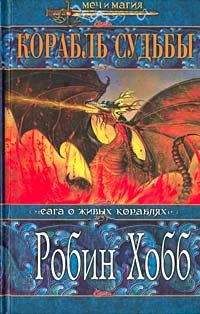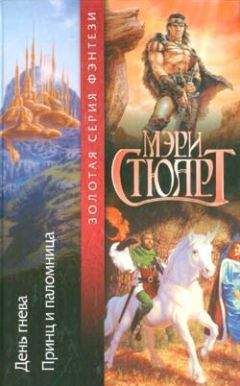Мэри Стюарт - День гнева. Принц и паломница
Что до Мордреда, то новая власть, неуверенность в завтрашнем дне, ослепительное начало давно вынашиваемых планов и близость желанной и прекрасной Гвиневеры — все это день ото дня все дальше уносило его волной могущества и верховной власти, и сомнительно уже, мог ли он в тот момент повернуть назад. В любви, как и в других делах, наступает время, когда отступает воля и обнажается страсть, и тогда даже Орфей, обернувшись, не смог заставить исчезнуть свою любовь. Он мельком увидел ее, истинную Гвиневеру, одинокую женщину, которая боится жизни, лист, который любой сильный ветер загонит в безопасный уголок. Он будет — нет, он есть — ей безопасной гаванью. Он был достаточно проницателен, чтобы понять, что она это признает, и не спешил идти напролом, а действовал мягко и исподволь. Он может подождать.
Так тянулись дни, а ветры еще закрывали Узкое море, и каждый из них непрерывно следил за трактом, ведшим от гавани, не появится ли гонец из Малой Британии. И каждый проводил ночные часы, всматриваясь в темноту и думая, думая, думая, а когда они наконец засыпали, то сны их были не друг о друге, а об Артуре.
О герцоге Константине, угрюмо вышагивавшем по своему корнуэльскому замку, они не думали вовсе.
7
Письмо Константина доставили Артуру в военный лагерь в окрестностях Отена. Король Хоель, почувствовав теперь, когда битва завершена, что годы и недуги берут свое, увел войска домой. Артур остался один, если не считать Гавейна, который в эти дни всегда был рядом.
А кроме того, на короля навалилась тягостная усталость. Он вернулся из краткого карательного набега в горы и обнаружил, что среди его войска, которое все еще искало в грудах трупов его тело и считало себя потерявшим своего короля, царят смятенье и паника. Даже его возвращенье не принесло особой радости, поскольку Бедуир, чья рана оказалась тяжелее, чем он готов был признать и даже чем судили после первого осмотра, теперь серьезно занемог, и лекари качали головами над убогим ложем во флигеле королевского павильона, где поместили раненого.
Так что Артур не просто был один, он был одинок. Бедуир при смерти. Кей, старший приемный брат, с которым он вместе рос, мертв. И Гай Валерий, стареющий воин, ветеран войн Амброзия и друг Утера Пендрагона, тоже, и Мерлин… Перечень казался бесконечным, имена как реестр из повести о прошлой Артуровой славе или даже простой подсчет его друзей. Из тех, кто был близко ему, лишь Гавейн остался невредим, и он, исполненный радости первой своей великой битвы и громовой победы, выказал себя надежной и крепкой опорой. К нему Артур, впервые почувствовав свой возраст (хотя годами он был намного моложе короля Хоеля), обратился с благодарностью и любовью.
Артур начал читать письмо герцога. Из-за шкур, натянутых поперек шатра и разделявших его надвое, слышались стоны и бормотанье — это метался на своем ложе Бедуир. Лекари предсказывали, если жар не спадет, он умрет до рассвета.
И все же письмо. Мордред… объявил себя Верховным королем, вступил в переговоры с Сердиком, собрал королей Уэльса и Севера…
— Что ж… — Артур нахмурился, голова у него болела, и в чадном свете факелов слова плыли перед глазами. — Что ж, всего этого и следовало ожидать. Если весть о моей предполагаемой гибели донеслась до Мордреда, он предпринял бы именно эти шаги. Мы об этом говорили перед его отъездом из Керрека. Он должен встретиться с Сердиком, чтобы подтвердить договор и обсудить возможность новых поселений в будущем. А теперь, если ему доложили о моей смерти, он вполне мог счесть целесообразным торговаться о новых условиях, поскольку старый договор все равно потерял силу.
— О новых условиях! Этот союз — в лучшем случае безрассудство, а в худшем — смертельная опасность! Речь ведь идет о Синрике, он набирает новых рекрутов среди саксов. Ты это знал, дядя?
За стеной шатра раненый вскрикнул, потом все стихло. Затараторил тихий голос, послышались быстрые шаги, шелест длинной одежды. Король привстал, пергамент, на мгновение забытый, упал на пол, но вот бормотанье возобновилось. Еще не смерть, старый друг пока еще жив. Артур вновь упал в походное кресло.
— Ты знал о Синрике? — настаивал Гавейн.
— О Синрике? Ах, о том, что он в Саксонии собирает людей под свое знамя. Нет, но если это правда…
— Я более чем уверен, что это правда, — возразил на это Гавейн. — Я уже слышал, какие слухи ходят по лагерю. Войска скапливаются на Нейстрийском побережье. Долгие корабли теснятся в гавани, будто набитые в колчан стрелы. А зачем? Синрик отдаст якоря, и Сердик двинется к юго-восточным портам ему навстречу, и тогда Южные саксы будут зажаты между двумя армиями, и весь юго-восток отойдет Сердику. Это развяжет ему руки звать всех, кого он пожелает, приплыть в Британию и влиться в ряды его войск. Южные саксы были стеной, что его сдерживала. Кто остановит его теперь?
Гневный взгляд Гавейна вперился в лицо короля — сдержанность Артура душила его как ошейник. Если он и слышал звуки из-за стены, он не подавал виду. Он не попытался даже понизить голос.
— Не сомневаюсь, следующий курьер привезет мне донесенье о том, что поделывает Синрик. — Голос Артура звучал устало, но без особой тревоги. — Что до остального, сказанного в письме, вспомни, Гавейн, кто его написал. Герцог Константин без удовольствия встретил провозглашение Мордреда регентом. И еще меньшее удовольствие ему доставило то, что Мордред назначен моим единственным наследником. Все, что он говорил здесь, — Артур кивнул на письмо на полу, и Гавейн наклонился подобрать его, — все, что, по его словам, совершил Мордред, мы с Мордредом обговорили, так он и должен был поступить. А о том, как это делается, у нас есть лишь слово Константина, которое едва ли можно назвать словом друга.
— Но, конечно, сам Мордред должен был послать гонца с донесеньем? Если сюда смог пробиться посланец Константина…
— Если он поверил рассказу о моей смерти, — прервал его Артур, — кому он его пошлет?
Раздраженно передернув плечами, Гавейн протянул было руку, чтобы отдать письмо дяде, но остановился.
— Это же еще не все. Есть что-то и на обороте, видишь?
Забрав у племянника письмо, Артур увидел последние фразы на обороте и начал читать их вслух.
— И, наконец, теперь, когда не стало Верховного короля, он вознамерился взять в жены королеву Гвиневеру. Он поселил ее в Каэрлеоне…
Он не закончил, но закончил за него Гавейн — на высокой ноте; искренний гнев мешался с чем-то сродни ликованью:
— И водится с нею там. — Он начал уже поворачиваться, потом круто обернулся к королю: — Дядя, не важно, верит он в то, что ты мертв, или нет, это поступок предателя! У него еще нет доказательств, ни тени причин увозить королеву в Каэрлеон и ухаживать за ней! Ты сказал, что остальное в этом письме может быть правдой… если это так, как бы эта правда ни была подана, так, значит, правдивы и последние строки!
— Гавейн… — предостерегающе начал король, но Гавейн, пылая гневом, не унимался:
— Нет, ты должен меня выслушать! Я твой родственник. От меня ты услышишь правду. Я могу сказать тебе вот что, дядя: Мордред всегда жаждал королевства. Я знаю, сколь честолюбивым он был даже дома на островах, еще до того, как узнал, что он твой сын. Да, твой сын! Но все же отродье рыбаков, крестьянин с крестьянским коварством и крестьянской жадностью и с честью барышника! Он схватился за первую же возможность стать предателем и получить желаемое. С саксами и валлийцами за спиной и с королевой рядом… да уж, соправители! Он не терял времени даром! Я видел, как он на нее смотрит…
Что-то в лице Артура заставило его умолкнуть. Трудно сказать, что это было, поскольку король походил на мертвеца, высеченного из серого камня. Осанка, наклон головы, застывший взгляд — все в нем наводило на мысль о человеке, который видит, как под ногами у него разверзлась гиблая, ощетинившаяся копьями пропасть, и все же цепляется за хрупкое деревце в упрямой надежде, что, быть может, оно не даст ему упасть. И за занавесью из шкур воцарилось безмолвие.
Голос Артура — все еще ровен, все еще полон здравого смысла, но в нем нет ни жизни, ни красок.
— Гавейн. Последнее, к чему я обязал моего сына, это в случае моей смерти беречь и защищать королеву. Он относится к ней так, как относился бы сын к родной матери. То, что было сказано, будет забыто.
Склонив голову, Гавейн пробормотал что-то, что можно было принять за извинение. Артур протянул ему письмо.
— Сожги это. Сейчас. Вот так. — Это Гавейн поднес пергамент к пламени факела и стал глядеть, как он чернеет и заворачивается, обращаясь в вороньи перья. — А теперь мне нужно пойти к Бедуиру. Наутро…
Артур не закончил. Он начал вставать на ноги, медленно двигаясь, перенес свой вес на руки, лежавшие на подлокотниках — будто старик или больной. Гавейна, тепло относившегося к дяде, внезапно охватило раскаяние, и он заговорил намного мягче: