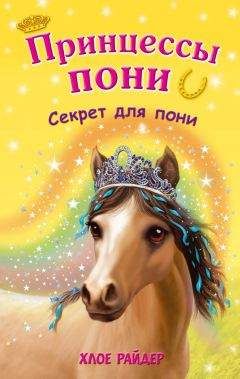Екатерина Казакова - Пленники Раздора (СИ)
— Здешние Осенённые почему-то думают, что наилучшее для Фебра — остаться человеком. Пусть незрячим, полуглухим, увечным, но человеком. Если твой жених начнёт обращаться, его упокоят. Но посмотри на меня. Разве я — чудовище? Я хожу, говорю. Я такая же, как ты.
Взгляд Клёны застыл, как вода в полынье, стал холодным, тёмным.
— Зачем ты пришла? — спросила девушка.
— Затем, что твой рассудок не затуманен ненавистью. В нём живет любовь. Ты способна принять верное решение, — ответила Ходящая.
— Он станет волком?
— Да. Ну и что? — с вызовом спросила Мара. — Станет. Он Осенённый — он будет помнить всё: и тебя, и Цитадель, и свою жизнь. Его раны исцелятся. Он будет здоров, как прежде, даже сделается ещё сильнее. Он не будет бояться дневного света. Вы сможете быть вместе, понимаешь? Зачем все здесь хотят оставить его коротать остаток века немощным калекой? По-твоему после всего пережитого, он заслуживает то, что вы ему уготовили?
Клёна рывком поднялась со скамьи.
— Уходи.
Мара покачала головой.
— Подумай, девочка. Хорошо подумай.
— Уходи.
Волчица тоже встала и пристально посмотрела на собеседницу:
— Объясни мне, почему ты отказываешься?
Девушка глядела на неё угрюмо и враждебно:
— Он человек. Будет жить человеком. И человеком же умрет. Но кровь людскую пить не станет.
Ходящая выругалась сквозь зубы и зашипела:
— Далась вам эта кровь! Что на ней — свет клином сошелся? Её и надо-то три глотка в луну! Так нет, развели причитания! Я тебе говорю — живой он будет, здоровый. Неужто во всем свете нет никого, кто дал бы ему три глотка в луну?
Она вперила в девушку пронзительный взгляд.
Клёна упрямо повторила:
— Уходи.
Мара досадливо топнула ногой и направилась прочь. Однако у самой двери замерла и сказала:
— Думай, дурёха. Хорошенько думай. В полночь приду. Может всё-таки возьмут в тебе верх не злоба и ненависть, кои вас всех пленили, но разум. И любовь.
Хлопнула дверь. Клёна медленно опустилась обратно на лавку.
Что делать?
К отцу бежать, жаловаться? К Ихтору?
Соглашаться?
Всем сердцем девушка хотела, чтобы Фебр был здоров. Если бы предложила волчица ей самой оборотнем стать, чтобы он исцелился — ни мгновенья бы не раздумывала. Если бы ей надо было ногу отнять, чтобы у него новая выросла, тоже согласилась бы безо всякого страха. Отдала бы и очи свои, и острый слух, и крепость тела…
Но ничего этого сделать было нельзя. И требовалось от неё принять решение за того, за кого не имела она права решать. За обережника. За ратоборца, которому мановением Клёниной руки грозило стать нечистью, с коей сам он бился.
Девушка забегала по покою.
В голове медленно распускались пунцовые цветы боли. Кровь грохотала в висках, усугубляя мучение.
Что делать? Как быть?
И до полночи ещё так долго.
* * *Клёна в одной исподней рубахе сжалась на лавке, обхватив руками колени. В очаге потрескивал огонь. За окном повисла тьма. Было тихо. Так тихо, словно никого в целом свете не осталось, словно за толстыми каменными стенами царила лишь непроглядная чернота.
Мысли девушки будто оцепенели. Ей следовало принять решение, но сил и смелости это сделать не было. Да и можно ли решать за другого человека? Кто ей дал такое право? И сумеет ли она потом жить, зная, что распорядилась по своему хотению чужой судьбой, к которой и прикасаться-то нельзя?
Девушка запустила руки в волосы и уткнулась лбом в коленки. Сколько она сидела так, слушая потрескивание дров в очаге, Хранители ведают. Но когда в дверь постучали, Клёна мгновенно вскинулась.
Мара стояла на пороге и смотрела вопросительно. Она знала, какое решение будет принято. Знала. И пришла лишь за тем, чтобы услышать его, а взамен попросить о какой-то ответной услуге.
— Ну что? — тихо спросила волчица. — Отважилась?
Хозяйка покойчика кивнула.
— Да.
— Умница. Одевайся, идём.
Клёна зябко обхватила плечи и спросила, переступая босыми ногами на студеном полу:
— Куда?
— В лекарскую, куда же ещё? — удивилась Ходящая. — Да не топчись ты на месте, времени мало!
Волчица прислушивалась к чему-то, что не улавливал слух собеседницы, и выглядела до крайности обеспокоенной.
— Зачем в лекарскую? — спросила Клёна.
У Мары лопнуло терпение, и она зашипела:
— Что ты, словно варёная! Собирайся!
— Я никуда не пойду, — ответила девушка и даже сделала несколько шагов назад.
Вытянутые, приподнятые к вискам глаза волчицы наполнились изумлением.
— Ты не хочешь, чтобы он остался жив и здоров? — насмешливо спросила Ходящая.
Клёна не стала врать и ответила хрипло:
— Хочу. Больше всего на свете. Но если попытаешься его обратить — всё расскажу обережникам.
Мара фыркнула и смерила собеседницу снисходительным притворно-ласковым взглядом. Так иная мать смотрит при гостях на любимое расшалившееся чадо. Вроде бы просит душа розгами паршивца выдрать, а при людях не сорвёшься. Так и оборотница. Смотрела на Клёну, словно ждала, что вот-вот та перестанет ломаться, отринет доводы разума и послушается голоса сердца.
— Ты хоть подумай, дурёха, — терпеливо, но с проскальзывающим в голосе гневом, заговорила волколачка, — на что обрекаешь мужика? Ещё по осени он на двух ногах ходил, двумя глазами глядел, двумя ушами слышал, двумя руками меч держал. А новую весну встретит немощным калекой…
— Уходи, — Клёна указала докучливой гостье на дверь. — Он родился человеком, значит, человеком и умрёт. Это не ты и не я так решили, а жизнь распорядилась. Ты — волчица, он — людского племени. И Ходящим не станет. Умрёт ли, выживет ли, но будет так, как Хранители ему урядили. Не ты и не я. Хранители. Поняла?
Ходящая на удивление смягчилась. Звериный огонек в глазах погас и даже черты лица сделались милее.
— Ну, хватит, — сказала она. — Раскричалась. Не умрёт. А коли умрёт, так уж всяко не завтра. Как ты решила, так пускай и случится. Тебе с этим жить.
И не проронив больше ни слова, Мара вышла. Хлопнула дверь, и Клёна осталась одна. Трясясь, словно в лихорадке, она упала на лавку, накрылась с головой одеялом и ещё долго-долго лежала без сна, думая о том, что ей и вправду придётся жить со своим решением. Она пыталась осмыслить, какие чувства будет в ней это осознание и, наконец, поняла — горечь, страх, беспомощность… Много чего ещё. Но не сожаление.
…Мара вышла в пустой коридор и постояла в полумраке, раздраженно притопывая. А ведь казалось, что получится! Девчонка сопливая совсем — в той самой поре, когда за любовь ничего не жалко — ни чести, ни совести, ни здоровья, ни сил. Потому что первая она, любовь эта, а оттого кажется единственной на всю оставшуюся жизнь. И не верится в этот миг глупым, что первой любви цена — полушка, потому что, хоть горит она чисто да ярко, но зато сгорает быстро и всегда дотла. Впрочем, с Клёной вышло иначе.