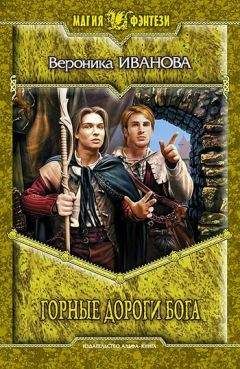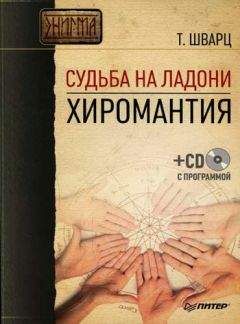Вероника Иванова - Раскрыть ладони
Все произошло так быстро, что народ не сообразил расступиться еще дальше, освобождая место для вышедших из повиновения чар, а мальчик, тот самый худышка, стоящий в первых рядах, оказался слишком близко от одного из рассекающих воздух шелковых колец.
В следующий миг мне показалось, что возвращается старый кошмар. Поднятое в воздух, запутавшееся в лентах, отчаянно бьющееся и только больше увязающее в красно-синей паутине тельце. Отличие было только в одном. В полной тишине. Мальчик не кричал, как не издавали ни звука замершие в ужасе зрители. Прошла очень долгая минута прежде, чем зеваки попятились назад, а какая-то женщина всхлипнула:
— Да помогите же кто-нибудь!
Ответом было молчание. И виновато-равнодушные взгляды. Мол, мальчишка приютский, а там их и без него много остается. Одним больше, одним меньше, невелика потеря — вот, что читалось в глазах людей. Читалось слишком ясно и слишком жестоко.
А вот в глазах демона, к которому я повернулся, надеясь найти помощь, жили совсем другие чувства. Спокойствие и бесстрастное ожидание развязки.
— Ты же можешь…
Но слова прилипли к языку, когда Джер растянул губы в холодной улыбке:
— Сам. Только сам.
Но я ведь больше не способен… Ни на что!
Кровь превратилась в патоку или сердце замедлило свой ритм?
Удар.
Багровая сеточка сосудов на лице тщетно старающейся восстановить дыхание девушки-Поводыря.
Удар.
Синеющая под затягивающимися петлями кожа ребенка.
Удар.
Нелепая, но от того не менее страшная смерть, нетерпеливо переминающаяся с ноги на ногу и потирающая потные ладони.
Еще один удар сердца, и все будет кончено…
А, пусть всё и все идут за Порог! Буду рвать руками если не чары, то шелк. Только бы не увидеть еще один раз, как по вине взрослых умирает ребенок.
Занавеси показались сетью натянутых струн, когда я ворвался в сине-алую чехарду лент. Тугие, совсем иные, нежели раньше. Плотные, сильные, тыкающиеся в ладони, как послушные лобастые псы. Путаница чар кажется совсем бесплотной рядом с этими нитями, вроде бы несуществующими, и все-таки, до боли реальными. Снаружи нет ни тепла, ни холода, зато внутри меня, от края до края плоти проносятся волны, огненные и ледяные. Я больше не могу ясно чувствовать заклинания, но… Я все равно знаю, где они!
Вот тут, где струны занавесей выгнуты, определенно, находится узел. Вон там, под рассыпавшимся жгутом наверняка проходит междоузлие. И если взяться за невесомые нити… Но разве это возможно? Разве раньше они не ускользали прочь, оставляя лишь воспоминание? Впрочем, мне и в голову не приходило ловить в плен тех, кто свободен по-настоящему. Тех, кто наполнен истинной свободой.
А почему бы и нет?! Я ведь ничего не теряю. И, что самое главное, не хочу терять.
Но подчинения не будет. Танец. Только он. Иначе я не умею и не хочу уметь.
Пальцы, истосковавшиеся по работе, словно сами собой вонзились в плоть шелковых чудовищ. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Никогда не пробовал учиться играть на лютне, но клянусь, сейчас не уступлю ни одному из признанных мастеров! Пусть моя мелодия никому и никогда не будет слышна, она предназначена совсем для другого. Не для услаждения слуха. Для продолжения жизни.
Я умер? Пусть. Но это не запрещает мне любить жизнь. И я буду любить! Всеми силами. Как умею. Нет, лучше и больше, чем умею!..
Последний рывок взметает в воздух клочья лент, потерявших магическую опору. Я стою посреди пустоты, окаймленной испуганными людьми, и держу на руках мальчика. Нет ни чувств, ни желаний, одна только уверенность. В том, что ребенок жив.
Тишина длится и длится, пронзительная, нерушимая, вечная. Длится, пока над моим правым плечом не пролетает довольный шепот:
— Понял? Твоя жизнь — только в твоих руках.
Да. В моих. Но если бы только МОЯ жизнь…
* * *— А это все нам? Правда-правда?
Мальчишка, окончательно пришедший в себя и почти забывший о пережитом ужасе, ухитряется бегать вокруг нас, хотя мы шагаем очень даже быстро. Есть, куда торопиться: Дом призрения находится на другом конце города, и если лениво медлить сейчас, возвращаться придется в кромешной темноте. Вернее, темно будет на улицах в стороне от праздничного разгула, но поскольку пробираться через веселящуюся толпу очень трудно, придется прокладывать обратный путь именно по закоулкам.
— Конечно, вам! Взрослые люди сладкого не едят, — с серьезной миной заявляет демон.
Незатейливой шутки оказывается достаточно, чтобы бегун изумленно остановился и вытаращился на нас во все глаза:
— Как это?
— Мы предпочитаем другие лакомства, — подмигнул Джер, чем еще больше озадачил мальчика.
Но юный разум не любит мучаться размышлениями, и наш спутник, тряхнув рыжими вихрами, спросил:
— А можно, я пойду вперед?
— Конечно, можно.
— А вы дорогу найдете?
Демон вопросительно взглянул на меня. Пришлось ответить:
— Найдем.
— Точно найдете?
Вот ведь, настырный…
— Беги уже!
Мальчишка радостно кивнул и, не прошло и вдоха, затерялся в затейливых уличных поворотах. Джер проследил за ним взглядом и недоверчиво переспросил:
— Уверен, что не заблудимся?
Цежу сквозь зубы:
— Да.
— Но не хочешь туда идти.
Звучит утверждением, и мне почему-то становится грустно.
Да, не хочу. Ненавижу это место и воспоминания, связанные с ним. Но причина грустной боли кроется в другом. Если бы демон сомневался и спрашивал, так нет же! Просто облек ощущения в слова. Причем, мои ощущения, не свои.
И продолжать расспросы не будет. Оттого, что не любопытен? Наверное. Но мне в его молчании слышится вовсе не затаенно-отрывистое дыхание любопытства, а приглашение. К разговору? К признанию? Нет. К свободе. Словно предлагает отпустить все, что причиняет боль. Не прогнать, а распахнуть дверь и отвязать поводок.
— Почему ты такой?!
— М-м-м?
Он останавливает руку на пути к корзинке со сладостями, всученными нам тем самым лоточником. В благодарность, так сказать, за спасение невинной души ребенка и самого торговца — от обвинения в нечаянном злоумышлении. Я бы не взял, а вот демон отказываться не стал, сграбастал все предложенное. Правда, утверждал, что вовсе не для себя, а для детей из приюта. Врал?
— Ну одну-то штучку можно? Никогда не пробовал ничего подобного.
Сейчас он и сам похож на ребенка, наивного, удивленного и обиженного. Еще один лик ярмарочного болванчика? Который же по счету? Что-то я сбиваюсь… Может быть, и не стоит считать?
— А я могу тебе запретить?
— Можешь.
— И ты послушаешься?