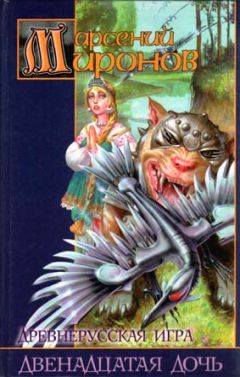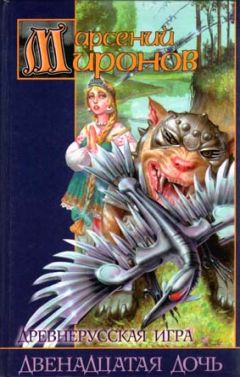Арсений Миронов - Двенадцатая дочь
Перцовка, перескакивая от дерева к дереву, проводила их до самой землянки. Навела монохромную красно-белую камеру: там, на пороге нашего штаба, полуголых растрепанных разведчиков уже ждал Каширин с неподвижным лицом, а сзади, за спиной его, возбужденно шумели остальные.
— Где… мой князь… Геурон? — задыхаясь, закричал Неро еще издали. Мокрый, раздерганный. — Я буду докладывать… только ему!
Вещий князь Лисей вышел вперед. Молча, приподняв бровь, с тонкой улыбкой глянул на подчиненного:
— Я здесь, десятник. Докладывайте немедленно.
— Все… сделано, высокий князь. Я… слетал к «Яблоньке».
— Где она? — быстро прошептал Лисей, импульсивно подступая ближе. — Ты узнал, где она находится?
— Узнал, князь. Там… целый двор, несколько теремов… Сотни людей сидят на дворе… Они… затаились — маги, колдуны, молодые прихвостни Куруяда… Даже дивы, князь! И все это — не где-нибудь, князь… Здесь, рядом. Во Властове.
— Где? — Лисей очевидно отшатнулся, как от удара лезвием. — Секретная база чурильцев — во Властове?
— Точно так, высокий князь. Ты знаешь двор сумасшедшего боярина Рятвы по прозвищу Лубяна Сабля? Про которого говорят, что он помешался? Заперся за высоким забором и творит молитвы незнаемым страшным божкам? Якобы огромный двор его опустел, и Лубяна Сабля целыми днями ходит один по пустым комнатам? Это не так. Двор боярина Рятвы заполнен вооруженными людьми. Они ждут своего часа. Ждут часа Чурилы!
— Пятая колонна, — ухмыльнулся Каширин.
— Дом Лубяной Сабли… — пробормотал Вещий Лисей. — Ведь он находится, в самом центре града! Внутри детинца!
— Вы правы, высокий князь. Я очутился в темной комнате под крышей — на стенах висит оружие, какие-то одежды: купеческие, крестьянские, воинские… Два окна в стенах, бросился к первому, вижу — огромный внутренний двор, а там — люди, повозки, бочки со снедью, все кипит! Кинулся к другому окну — и обомлел: вот же она, угловая башня властовского детинца! А чуть в стороне — рукой подать — резные, изукрашенные коньки над кровлей посадникова терема…
— «Яблонька» — в ста шагах от дома Дубовой Шапки! — воскликнул Лисей. — Вот где окопался Куруяд! Кто бы мог подумать…
— Ну что ж… это победа! — улыбнулся Каширин, ласково потрепал оцепеневшего Лисея по плечу. — Мы отыскали змеиное гнездо. Осталось раздавить яйца, пока гаденыши не вылупились.
— Да! — Лисей тряхнул головой. — Это удача! Десятник Неро… Вы рисковали жизнью. Вы отважный человек. Вы подарили нам шанс раздавить врага. Нанести упреждающий удар!
— Слава Вещему Лисею! — вдруг грянуло где-то за кадром; камера Перцовки заметалась, прыгая по лицам столпившихся людей. Это были Данькины ярыги, недобитые греческие катафракты, ополченцы, оставившие семьи, для того чтобы встать под стяги вольницы-полымельницы — Слава наследнику! Слава Зверке! Раздавим гадину!
Алексис был особенно хорош в эту краткую минуту торжества. Он сделал быстрый шаг… вышел вперед и поднял тонкую железную руку — в небо под жестким углом. Брови его гордо поднялись, лицо просияло.
— Воины Залесья! Светлые стожаричи! Ярые гатичи! Верные дубровичи! Узолы, нережи, становляне, мохлюты… И вы, великие воины бессмертной Империи! Наша победа приблизилась! Остался один шаг, решающий выпад!
Помолчав, вдруг добавил:
— Слава наследнику!
Толпа взорвалась ликованием. На секунду все смешалось на экране: засверкали выброшенные в небо клинки, кто-то бросился обнимать князя Лисея…
И вдруг произошла эта гадкая сцена.
Молча растолкав восторженных воинов, едва не сбив плечом князя Лисея, наследник Зверко вдруг развернулся и бросился сквозь толпу — напролом, прочь.
Бегство героя
(дневник самозванца)
…Стремя под ступней,
да дым огней, да перекличка птиц.
Тебе не спится.
Кто тебя излечит?
Горбатого уже не покалечат,
Он встанет и пойдет, услышав клич.
Пойдет туда, где воздух сыр ночной,
где сыпью звезд унизанное небо.
Забросив щит на спину, наобум.
Его излечит от опасных дум
стальная вязь кольчуги или грязь
растерзанных полей, где рос бы хлеб.
Иди туда, иди туда скорей…
Беглое солнце безудержно рушилось в запад, но Каширин никак не хотел отлепить свое тело от смятой травы — раздавленной, горькой, пахнущей сочной зеленой слюной и цветочным потом. Он лежал в какой-то убогой, корявой низинке — так и остался там, где на бегу оступился и послушно упал грудой железа в росу, носом в размокшие травяные иглы. Никто не видел его лица, и Данила не думал о том, зачем он так страшно морщится и хрипло гудит себе под нос, сквозь стиснутые зубы, зачем изредка хватает зубами траву, как больной, как глупый ребенок. Плевать, хочу гудеть и грызть. Еще он хотел прижиматься пылающим лбом к холодной кочке и, раскидав тяжелые руки, запуская пальцы в траву, как в теплые волосы, — драть когтями, кулаками. Иногда ему казалось, что скрип собственных зубов громче птичьего крика и гула шумящих деревьев. Открывая глаза, он видел двух медленно ползущих муравьев, казавшихся огромными, как железные пороки царя Леванида. Закрывая глаза, видел желтые злые круги, оранжевую рябь, белые сполохи молний — и Руту.
Нет, наследник Зверко не любил ее. Он спокойно думал крупной своей головой и понимал, что не хочет променять всех женщин мира на маленькую дурочку с глазами, как у прирученного волчонка. Всех женщин мира! Каширин знал, как дорого стоят все женщины мира — кому охота вдруг лишиться всех прав на это дивное, бессмертное, многоликое сокровище. Полюбив Руту, он теряет чересчур немало. Неужели всю оставшуюся жизнь он будет любить только эти — единственные в мире — серо-голубые глазки, целовать только этот маленький, пухленький, удивленный рот, греть пальцы только в этих огненно-рыжих, как жар-птичий хвост, волосах… И что, в его жизни больше никогда не будет пушистой светлой косы, намотанной на его собственный, Данилин, красный кулак? Колючих, слипшихся угольно-черных волос, щекочущих его, Данилину, горячую ладонь? Тончайшего русого волоса, величественно оброненного томной хозяйкой на Данилину грудь — откуда-то свысока, из россыпей распавшейся прически? Этого — больше никогда?! Всю жизнь — медное, медленное, рыжее пламя… Да нет, он не готов. Это не любовь… Надо успокоиться, одуматься, остыть.
Да нет, наследник Зверко не любит ее. Неужели вся его жизнь сожмется в узенькое горлышко Рутиного рта, и только в это горлышко вольется вся огромная любовь Каширина — будто в хрупкую, тесную воронку песочных часов? И только через это горлышко просыпются в прошлое все-все-все нерастраченные тонны золотых секунд его огромной, необъятной жизни?