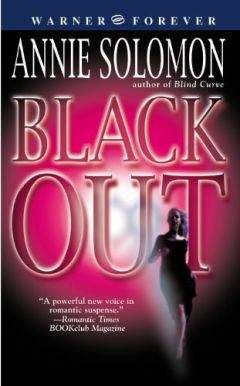Марго Ланаган - Лакомые кусочки
— Ты что, на тот свет захотел? Этот буйный пришибет тебя, как муху!
А ты бы не буйствовал, если бы твою жену застрелили из арбалета? — едва не крикнул я, но сдержался.
— Дай мне поглядеть на него, Озвест, а ему — на меня. Бедный мой приятель!
Ноэр опять заревел. В его реве уже не слышалось угрозы, а только тоска, такая жуткая, что у меня на шее волоски встали дыбом.
— Ладно, рискну, — вздохнул Озвест, откладывая в сторону ножик и обструганную деревяшку. Он подошел к окну, закрытому ставнем, и позвал:
— Ноэр! К тебе пришел твой друг, Баллок. Хочет повидаться с тобой. Баллок, помнишь? Тот, что был Медведем вместе с тобой.
Рев оборвался. Я затаил дыхание, ожидая, что Ноэр завоет снова. Озвест тоже замер и прислушался, потом с задумчивым видом снял ставень, всмотрелся в темноту. Хлипкие деревянные стены вдруг сотряслись от низкого, утробного рыка. Озвест нервным жестом подозвал меня поближе.
— Видишь, Ноэр? — опасливо спросил он.
Я ничего не мог разглядеть и побаивался медвежьего когтя, который в любую минуту мог метнуться из глубины сарая и рассечь мне лицо.
— Ноэр? — окликнул его я. Поджилки у меня тряслись еще сильней, чем у Озвеста.
Плотное тяжелое облако тишины зависло в сарае, потом послышался слабый голос:
— Баллок?..
Это имя прозвучало так ясно и жалобно, что я понял: Ноэр остался все тем же Ноэром, моим бестолковым несчастным другом. Он начал всхлипывать. Из окна мне в нос ударил знакомый запах прокисших от пота медвежьих шкур.
— Как он там не задохнулся? — воскликнул я.
— Он никого не пускает внутрь, — сказал Озвест. — Ноэр еще ни разу не плакал — либо дрался, либо спал, и так с самого утра, когда его принесли сюда и связали, ради его же блага.
— Баллок! — раздалось изнутри. — Ты еще здесь? — Послышался шорох, лязг и звяканье цепи, натянутой до предела.
— Да, да, Ноэр, я никуда не ухожу. — Я опять приблизился к окошку, чтобы он меня увидел.
— С тебя тоже сняли шапку…
— Да, Ноэр, сняли. Озвест, пусти меня к нему.
— Ты уверен? — шепнул мне на ухо Озвест. — Сейчас он спокоен, как никогда, но я за него не поручусь.
Мне страшно хотелось поколотить идиота Озвеста.
— Уверен. Открой дверь. Пожалуйста, Озвест, пока мое сердце не разорвалось от горя.
Качая головой, он достал ключ и трясущимися руками отпер дверь. По двору сразу распространилось зловоние. Озвест попятился.
— Стой там, куда не дотянется цепь, — шепнул он мне напоследок.
Однако я с порога бросился к Ноэру и — чистый, только что вымытый — заключил его вонючую грязную медвежесть в свои человеческие объятия, прижал его жесткую шкуру к своей тонкой свежей рубашке. Я стоял и обнимал его, а он плакал навзрыд у меня на плече. То единственное и страшное, о чем Ноэр хотел сказать, нельзя было выразить никакими словами. Чем я мог ему помочь? Лишь понять его горе без слов.
Позже слова все-таки нашлись. Мы сидели рядышком у стены; то один, то другой из нас пытался заговорить о том, что произошло, и, запнувшись, умолкал, но напряжение постепенно спадало.
Поглядев на нас в окошко, Озвест привел к сараю семью. Родные Ноэра начали осторожно расспрашивать его о здоровье, телесном и душевном.
— Я более или менее пришел в себя, — сообщил Ноэр, — но, честно говоря, пока не разобрался, кто же я такой. Баллок пытается мне помочь.
— Не хочешь поесть с нами? — спросила мать. — Может, сбросишь эти мерзкие шкуры, смоешь хворь? Когда ты в последний раз кушал, сынок?
— Не волнуйся, мам, я скоро приду. А пока ступайте, нам с Баллоком надо поговорить.
Отец Ноэра снял с него цепь, и вся семья удалилась, оставив нас предаваться скорби. Мы провели в сарае все утро и день, и пока там сидели, приготовления к пиру шли полным ходом. Только главный зал ратуши, видневшейся на холме, мог вместить всех гостей, только в нем хватило бы сковород и горшков, и мы волей-неволей слышали оживленные возгласы и смех стряпух, возгласы рубщиков мяса и кухонных мальчишек, стук топоров, которыми кололи дрова для печей.
— Значит, Филип… там? — с горечью спросил Ноэр. — Сдвигает столы и все такое?
— Филип? Что ты гово… Ах да, откуда тебе знать…
— О чем? — Ноэр побледнел.
— Филип больше не придет на пир, ни на этот, ни на какой другой.
— Что с ним приключилось?
Не зная, как открыть Ноэру правду, я начал тереть коленки, обтянутые новенькими штанами.
— Его тоже заперли? Или стряслось что-то плохое? Он не умер?
Я молчал, однако Ноэр прочел ответ по моим глазам и закрыл лицо вонючим рукавом куртки.
— Его застрелили. По ошибке приняли за медведя.
— Не может быть… — прошептал Ноэр в рукав. — Где? Когда? — его душили слезы, голос дрожал.
В довершение ко всем прочим невероятным событиям мне пришлось рассказать и об этом страшном несчастье.
Родители Ноэра принесли нам хлеб, копченое мясо и эль, а когда узнали, что мы не пойдем на медвежий пир, так опешили, что прикатили еще целый бочонок эля. Озвест, бедный дурачок, даже предложил принести с праздничного стола медвежатины, однако запнулся на полуслове, едва увидел, как я затряс головой и как помертвел взгляд Ноэра.
При всем том нам некуда было спрятаться от ее запаха — здание ратуши с его огромным залом, и кухней, и трубами стояло совсем недалеко. Она висела над нами облаком, густым и ароматным. Мы могли не есть мяса, но не могли не вдыхать ее.
— Давай уберемся из города, — предложил я. — Пойдем куда глаза глядят. Я попрошу у твоей матери чистые штаны и рубаху, и ты вымоешься в речке.
Ноэр задумался, но не смог покинуть свою тесную зловонную нору — это было выше его сил. Мы остались в сарае.
Время от времени родные Ноэра подносили еще еды, но с расспросами к нам не приставали — так велела его мать.
Пока в главном зале возносились молитвы во славу живых тварей — всех вообще, но особенно самых малых и самых сильных, — в вечернем воздухе царило спокойствие.
— По крайней мере они выказывают ей уважение, — сказал я Ноэру, который к тому времени уже изрядно напился и начал всхлипывать. — Вроде как похоже на настоящую церемонию воздания почестей. Спасибо им хотя бы за это.
А потом мэр издал приветственный возглас, ему ответил громкий хор мужских голосов. Вслед за этим крикнула жена мэра, и ее крик подхватили все женщины в зале. Пиршество началось. Праздничный шум и гам был мучителен для моего слуха, но моему другу пришлось еще тяжелее: звуки, доносившиеся с холма, жгли его, словно тысячи ядовитых пауков. Ноэр не находил себе места; метался по сараю, выходил во двор, где висел густой запах, аппетитный и соблазнительный, от которого текли слюнки, как бы мы ни старались не замечать его. Ноэр издавал ужасные стоны, урчал и ревел, но я не боялся, что он опять превратится в медведя — просто он был сильно пьян.