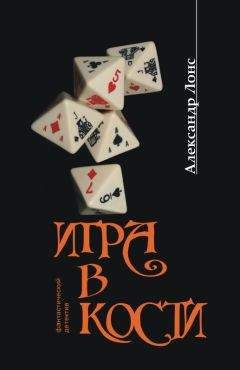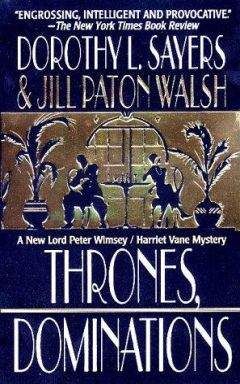Татьяна Зубачева - Мир Гаора
Выдачи четыре прошло, пока ему опять Полоша не сказал.
— Курнём?
Он понял, что его догадка: курить — это в умывалке или на дворе в выходной, а курнуть — на воле, — правильна, и кивнул.
Всей воли — закуток за рабским корпусом, а всё равно. Рядом сидит, прижимаясь к нему, Веснянка и курит частыми мелкими затяжками.
В выходные вечера часто пели. Обычно, уже разойдясь по камерам на ночь, когда до отбоя оставалось всего ничего, все лежат по койкам, но не спят и свет не погашен, кто-то, каждый раз другой, начинал песню, к которой присоединялись, подваливали остальные. Пели все. И он тоже. Когда знал слова, того же "коня" — там уже почти все слова выучил — то со словами, а нет… вёл голосом мелодию. Закончив песню, немного молчали и начинали следующую. Запевал уже кто-то другой. Обычно мужская и женская спальни чередовались, будто разговаривали песнями. После третьей, редко когда четвёртой песни входил надзиратель и командовал отбой, задвигал решётки и выключал свет.
За всё время ни разу Гаор не услышал знакомой песни или мелодии. Но и сам понимал, как нелепо бы здесь звучали маршевые и даже окопные песни, не говоря уже о тех, под которые танцевали. Не было и тоже известных ему "блатных" песен: уголовных или "блатяг" не любили, как он ещё в отстойнике понял. И то, как его встретили. Ворюга или мочила. Других ведь среди обращённых нет. Только Седой, тот мужчина на торгах с треугольником, нет с треугольником двое, у Ворона тоже треугольник, увидел случайно, когда оказался рядом с ним в душе, тот как раз голову мыл. Треугольник в круге, значит, долг выплачен, и Ворон считается прирождённым, видно, поэтому и терпят его. Но не дружат. И вот он сам со своей пятилучевой звездой. Четверо. А их только здесь две сотни, а сколько ещё, рождённых в рабстве, рабов от рождения? Система, конвейер… Хотя и он иногда даёт сбои. Но тоже по хозяйской воле.
…Веснянка лежит щекой на его плече, гладит ему грудь. Рядом как всегда кто-то сопит и покряхтывает. Даже мысленно он не позволяет себе узнать голос. Незачем.
— Рыжий, Рыженький, — шепчет Веснянка так, будто целует его шёпотом. — Любый мой. Были б мы в посёлке.
— И что тогда? — поворачивает он к ней голову, встречаясь губами с её ртом.
— Ох, — наконец отрывается она от его губ, — жаркий мой. Родила бы от тебя. Чтоб тоже рыжим был. Огоньком бы звала.
Такое кощунство немного задевает его, но совсем чуть-чуть, это же не может быть всерьёз, чтоб человека с Огнём в имени ровнять.
— Так за чем дело стало? — наклоняется он над ней.
Веснянка тихонько смеётся, прижимает его к себе. Он уже знает, как и насколько резко может ворочаться в тесном пространстве под стеллажом вещевой, и больше с ним таких казусов, как в первый раз, не бывает. Дразнят его, правда, до сих пор, и, как он понимает, ещё долго будут дразнить, рассказывая, как Рыжий в раж вошел, дорвался, понимашь, и все полки у Мааньки обрушил. Сам смеётся со всеми, уж больно складно у Сизого получается.
Веснянка охотно поддаётся ему, а той, первой, ведь не понравилось когда по-дуггурски, так и не показалась ему потом, не позвала больше. Он так и не знает, кто она. А Веснянка сама к нему на выходных играх подошла, в ручейке вызвала, и потом они целовались в полутьме за углом, совсем уйти со света он не рискнул, боясь нарваться уже не на дубинку, а пулю — за попытку к бегству огонь на поражение. И все ещё гомонили и играли, благо погода хорошая, а они ушли вниз, порознь как положено, разошлись по спальням и встретились у вещевой. Дверь приоткрыта и внутри темно. Значит, можно. Так и пошло у них. Хорошо пошло. Да и он уже не дёргался, чтоб как по-дуггурски, сзади, как ему привычно, а стал как все, по-нашенски, лицом к лицу.
Гаор замер, уткнувшись лицом в рассыпанные вокруг головы Веснянки её чуть влажные от пота волосы и, тихо соскользнув, лег опять рядом, уплывая в тёмную воду беспамятства. Рука Веснянки погладила ему волосы, расправила, накручивая на палец, кудри на лбу.
— Тебя матерь твоя Кудряшом, наверное, звала. Или Кудряшиком?
— Не помню, — ответил он, — нет. Вроде нет.
— А как?
— Не помню, — повторил он уже чуть более сердито.
Не любит он таких разговоров. Слишком по сердцу они его бьют. Веснянка поняла и замолчала. И ему стало уже немного не по себе, что чуть не обидел её ни за что.
— Ну, так как? — решил он вернуться к их тому, прежнему разговору. — Родишь от меня?
Она невесело засмеялась.
— Да не в посёлке ж мы. Здесь хозяин не даёт нам рожать. Он нас не на расплод покупал, по-другому работаем.
— Как это не даёт? — не захотел он понять.
— Глупый ты, Рыжий. Таблетки такие есть, вроде фишек, тоже беленькие. Вот раз в три выдачи нам их и дают, и глотать при себе заставляют, и в рот смотрят, проглотила иль нет. А коли всё хорошо, то конфету дают, чтоб заесть. Горькие они, во всём горькие.
Он молчал, прикусив изнутри губу, чтоб не закричать, не выругаться по-страшному. А она всё гладила его по голове и груди, не лаская, а успокаивая…
…Гаор потягивается под одеялом, забросив руки за голову, устало прислушивается к ночному, "казарменному" шуму спальни. Всё спокойно, хотя опять видел на вечернем построении эту сволочь. Ну, авось обойдётся. Вроде тот не дежурит, так подошёл, посмотреть. Говорили ему, что того теперь только на наружную охрану ставят. Но всё равно, неприятно. Спецвойска, спецовики, спецура… Самая отъявленная сволочь там. Болтали, что кто человек, так тех они сами забивают. Не верил. Знал, конечно, что за гады там служат, но чтоб такое… А теперь думает: правду болтали. Хорошо, Седой "мозготряс" свой на корню зарубил, ещё б спецуре "мозготряс" и тогда всё, кранты и амбец полный. А так… так ему случалось и обыграть их. Когда и вчистую. Как тогда, в Алзоне. Полное отделение, двенадцать человек вместе с машиной он на дно отправил. И не жалел, и не жалеет о сделанном. Только одного боялся: с ними офицер был. А хоть и младший лейтенант, а всё же не солдат и не сержант. Такого могут и посерьёзнее искать. Но обошлось. Никто об этом не знает, а то бы ему уже давно перед Огнём Справедливым стоять пришлось. А здесь говорят Ирий-сад. Как там у него в папке?
Листы пополнялись. Статью про Седого он уже почти сделал. "Вылизывал" её теперь, зачищая все шероховатости, аккуратно оставляя пропуски на месте дат, номеров и некоторых названий. Этого ему, к сожалению, сейчас не сделать. Статью про отстойник, печку и пепел пришлось всю перечеркнуть и начать заново. Для серьёзной работы у него нет данных, а для зарисовки… одни вопли, да и кого это зацепит. Чтоб страх прочувствовали в чтении, не надо писать: ой, как страшно. Нет, тоже пока только выписки, сбор информации, а эмоции на потом. Третий лист, стремительно разрастался, постоянно вычёркивались усвоенные и вписывались новые слова, он их уже начал потихоньку разбирать, отделяя то, что могло хоть как-то вывести его к первой, открывающей лист, записи, где под словом дуггуры красовался жирный вопросительный знак. Ничего, кроме, тутошних и исконных он пока вписать не может, а это не ответ, а уход от ответа. Он ещё раз просмотрел лист, вложил его в папку и завязал тесемки. Всё, спать — отдал он самому себе приказ.