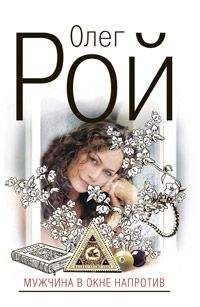Максим Черепанов - Сказатели. Русский фантастический альманах фантастики и фэнтези. № 1, 2014
Обломок меча сиял, переливался белым светом. Таффи не стал долго раздумывать — он махнул клинком, на котором вовсю играли сполохи огня, и ударил чудовище. Велиар взвыл, тщетно пытаясь сбросить с руки белые огоньки, пляшущие по широкой, незаживающей ране.
— Не может быть! Не может быть!
Серебристый огонь лизнул кожу, метнулся с руки на туловище, пополз, разбрасывая снопы искр, и охватил все тело. Велиар ревел. Он побежал во тьму, но нигде не нашел ее, лишь носился из угла в угол — огромный пылающий факел.
— У него в руках Блестящий! — визжало со всех сторон.
— Меч Плюша, меч Плюша!
— Идиоты, это осколок его деревяшки! — гаркнул Велиар. — Не понимаю! Не понимаю!
Таффи тоже не понимал.
Он глядел на невообразимую картину. Твари улепетывали, сталкивались, зажигали друг друга, образуя совместный белоснежный пожар. Вспыхивали как фейерверки, только ярче. Таффи не верил глазам. В его лапе меч Плюша! Тонкий, серебристый, теплый, сотканный из ярчайшего света…
Странным образом все встало на свои места.
Ведь сила не в росте, не в массе ваты и даже не в клинке или свете. Треугольник Канона с треском рушился, осыпался, а на его месте воздвигалась пирамида. И Таффи уже знал, что водрузит на вершину.
Если восходит солнце, значит, нас еще любят. Солнце светит злым и добрым, маленьким и большим, глупым и умным, храбрым и трусливым. Частичка солнца живет в каждом, нужно только хорошо искать.
Любовь творит невообразимые вещи. Самое разрушительное оружие перед ней — шалость. Любовь как яркий свет, как самый острый клинок, как истинное мужество и храбрость. Ее не сдержать — и тьма рушится, идет трещинами и в конце концов растворяется, точно капелька краски в слишком большом сосуде.
— Думаешь, у тебя хватит сил защищать детеныша вечно? — зарычал Велиар. — Плюш протянул лишь день! А ты… ты…
— Ползи-ка лучше в свою нору, — предложил Таффи и поднял меч выше.
И с затравленным шипением чудища исчезли.
Ушли, оставив только пустой мрак, который уже не пугал Таффи.
Пустой мрак…
Таффи долго не мог прийти в себя. Он стоял у Кирюшкиной руки, не в силах оторвать взор от клинка. Даже пошевелиться был не в силах. А вдруг все это — мираж? Стоит только двинуться… и чудища тут как тут. Страшно. Таффи не верил чувствам. Велиарово колдовство коварно. Но вот надежда — ее не заглушишь.
Он шагнул вперед — тьма молчала. Только за окном тихо шелестела ночь, перебирала ветки деревьев, сочилась в открытую форточку и заполняла комнату прохладным дыханием. С улицы тянуло тишиной и покоем. С улицы тянуло утром.
И Таффи, наконец, поверил.
Он сумел… Выжил. Сдюжил. Выстоял!
Не помня себя от радости, он принялся плясать на кровати, прыгать, кричать, махать мечом, оставляя в воздухе белые мерцающие полосы. Таффи спрыгнул на пол, описал и там парочку кругов, хохоча и что-то выкрикивая. От радости кружилась голова. Тьма ушла! Тьмы больше нет.
А потом он взглянул на часы. Они намекали: скоро утро.
Таффи побежал отыскивать обломки оружия, сожженные спички… Все это аккуратно складывал в тайник. А сам все думал, думал — мысли бежали маленьким, но упорным ручейком. Белый меч в лапе горел все ярче и ярче. Этот огонь не жег, а согревал, точно мягким солнечным светом.
Покончив с делами, Таффи принял вечернюю позу на диване и застыл. Краем глаза он видел, что клинок все еще блестит, пуская тонкие струи света между половицами. Только с первым рассветным лучом он снова принял форму фанерки.
А часа через два Кирюшка шлепал босыми ногами по дому, размахивая Таффи и не давая спать Мамуле. Теперь Таффи — пилот истребителя особого назначения. Ему приходилось летать из комнаты в комнату. Чаще всего — с жесткой посадкой.
Это весело, хоть и больно.
Таффи все думал. Он болтался в руке Кирюшки, уши дрыгались туда-сюда, ноги, руки — все летело в дальние дали. Но Таффи послушно не двигался, лишь наблюдал. И ясно — когда-нибудь все это прекратится, вся безмятежность растает и забудется. Кирюшка вырастет, повзрослеет. Ему уже не понадобится защитник.
Велиар прав. Рано или поздно каждый подходит к черте, где кончается земной путь. Будь то человек или защитник — не важно. Важно, как ты подошел, как жил и как готовился к этой секунде. А там сердце подскажет, что делать.
Да, Кирюшка его бросит. Придет время других сражений. Не будет маленького защитника, брань видимая обернется невидимой, тайной, но еще более страшной и жестокой…
Шесть жизней Анны Карениной
Светлана Багдерина
Мама, я Вронского люблю.
Почти из песниУвидев швейцара, вышедшего ее встречать, Каренина спохватилась и приподнялась на сиденье коляски:
— От графа был ответ?
Швейцар поискал в конторке и протянул ей конверт с телеграммой.
«Я не могу приехать раньше десяти часов. Вронский», — прочитала она.
— А посланный не возвращался?
— Нет, барыня, — отвечал швейцар.
— Нет… — повторила Каренина и почувствовала, как в душе ее мутной волной поднимается досада и гнев.
Отпустив коляску, она вошла в дом, но ни присесть, ни занять себя чем-то не смогла. Ужинать не хотелось. Не хотелось ни думать, ни вспоминать, ни видеть кого-либо, и даже стены и вещи в доме, его вещи, вызывали в ней отвращение и бессильную злость — на себя, не знающую, как прекратить его любить, и на Вронского — за то же. Анна догадывалась, что он полагает ее любовь напитанной непонятным чувством вины, назойливой и даже удушающей, но не понимала, как можно было не обожествлять такого совершенного человека, как Вронский, не благоговеть перед ним, не посвятить свою жизнь ему, и как Кити, будучи отвергнутой им, могла существовать как ни в чем не бывало. Что бы он ни делал, вокруг него сиял ореол мужественности и героизма. Непостижимо, как этого можно было не ощущать, быть незатронутой им, не затянутой с головой совершенно добровольно в сей стремительный водоворот…
Иногда душа Карениной просила свободы, вспоминая, что за стенами ее добровольной тюрьмы есть другая жизнь, силилась стряхнуть эту любовь-наваждение, но каждый раз при виде Алексея решимость ее порвать с ним таяла, и она вновь с самозабвением погружалась в трясину своей любви-плена, любви-болезни. И лишь одна мысль тревожила тогда ее несладкий покой. Любил ли он ее или всего лишь терпел, как ненужный трофей давно забытой победы, а то и тяготился?
«Я не могу приехать раньше десяти часов…»
Каренина остановилась посреди гостиной, и перчатки выпали из невольно разжавшихся пальцев.
А если он уехал, чтобы встретиться с Сорокиными — maman и дочерью, — и сейчас говорит с ними любезно, посверкивая глазами и радуясь в душе ее страданиям, забыв свое показное, не иначе, благородство и великодушие?