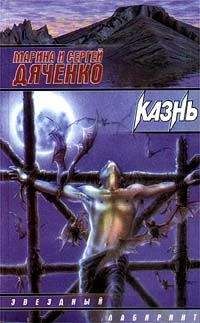Игорь Федорцов - Камень, брошенный богом
Смеешь ли ты говорить об истинной любви? — вопрошала Валери.
Ну, так что с поросенком? — не отставал Людоед.
Кончай шашни, жрать охота! Кинь мясца, человече! — поддержал товарища по псарне Душегуб.
Каким бы вы не являлись правдолюбцем, никогда не спорьте с женщинами и не давайте втянуть себя в такой спор. Результат будет обратный ожидаемому. Сдайтесь, смените тему, в крайнем случае, удивите чем-нибудь их — станет дешевле. Не ведаю, что за шальная мысль стрельнула мне под темя, поступить именно таким образом, но я решил удивить представительниц слабой половины человечества. И не так себе, а на повал!
— Одолжи мне инструмент Амадеус. Видишь, все тебя ругают. Может, меня похвалят.
Бард в недоумении принес мне брынькалку. Я перестроил её под шестиструнную гитару, для пробы взял пару веселых аккордов и, глотнув винца для смазки горла, запел. С чувством, с толком, с расстановкой!
Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопена, полюбил ее паж…*
— Вы некогда не говорили, что умеете играть, — едва я закончил пение, воскликнул уязвленный в самое сердце бард.
— Ты некогда и не спрашивал.
— Граф, я в вас влюблена! — восхитилась моим пением маркиза.
— Принимаю, — состроил я глазки гостье. — Я самый граф из всех ваших знакомых графов. Поэтому что бы поддержать репутацию…
Я глянул на левый фланг. Мой комментарий к тюремному романсу никак не шел у Валери из головы. Тетушка Монна внемлила мне, оторвавшись от бокала. Бона раскаляясь, буравила не ласковым взглядом. Людоед был близок к голодному обмороку. Когда кормить будешь!
Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живешь в заповедном и диком лесу,
Откуда уйти невозможно…
Валери замерла.
Что ж ты такая несчастливая, голубушка моя?
Пусть черемухи сохнут в тоске на ветру,
И скорбя, опадают сирени —
Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели…
В глубине грустных глаз графини Гонзаго дрогнул блеклый свет. Будто трепещущий огонек свечи пробился из-за морозных узоров стекла. Я, было, вспомнил Катюшку, но горечь времени разъела до неузнаваемости некогда любимый облик.
Твой край заповедный на тысячи лет
Укрыт от меня и от света,
И думаешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес неизведанный этот!
Сеньора Валери нервно огляделась, толи проверяя для кого я пою, толи из опасения выдать треволнения. А действительно для чего и для кого я пел? Для тетушки? Неааа! Для Боны? Ей мои песни, что мертвому щекотка. Для Югоне? Маркизу за душу не ущипнешь, лучше за ягодицу — быстрее поймет. Для Валери? С чего вдруг?
Пусть я многим пришелся не ко двору,
Пусть мир весь со мной нынче в ссоре[57], —
Все равно я отсюда тебя заберу
В светлый терем с балконом на море…
Неожиданно наши с Валери взгляды встретились, и я постарался не отвести свой. Может я обманывал себя, может, обманывал её, но почему-то мне хотелось, что бы эта женщина с сердцем, замерзшим в сосульку от обид и предательств, ощутила себя любимой. А может это я хотел ощутить себя любимым… Хоть разок! Хоть маломальский разик!
В какой день декады, в котором часу
Ты выйдешь ко мне осторожно…
Когда я тебя на руках унесу
Туда, где найти невозможно…
Валери потянулась к кубку и чуть пригубила вина. В моей памяти её действие вызвало не то мираж, не то призрак, не то еще какую то чертовщину…
Глядя на меня сверху, ОНА медленно льет на себя вино из длинного хрустального бокала… Розовая влага тонкой струйкой стекаем между двух упругих грудей, дальше в низ, по животу, туда, где слились наши тела… Вино кончается и бокал летит в стену, разлетаясь в звездную пыль… Она не знает о звездах!.. Ни чего не знает о звездах!!! Их попросту нет в этом скупом и щедром мире… Её лицо приближается… Целую подбородок, губы, нос, переносицу, горячий лоб, спрятанную под волосами татуировку змеиного глаза… Жрица!!!
Сердце давануло огненный ком крови, погнав его по артериям и венам, во все закоулки моего существа… Я хочу вспомнить и не помню!..Не помню!..Не помню!!!
Украду, если кража тебе по душе, —
Зря ли я столько сил разбазарил?
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял!*
Баллада закончилась. Я спел на все восемнадцать Оскаров американской академии. Я спел на все гремми, глобусы и пальмовые ветви мира. И не получил не чего. Даже имени…
…На пол упало блюдо и вилка, разбив мою хрустальную грезу в прах… Бона поднялась с места, словно её подкинула пружина.
— Я уезжаю, — выкрикнула она, заглушив последний аккорд из-под моих пальцев.
Молчу, пытаясь собрать осколки памяти воедино. Мне так хотелось помнить!!!
— Я уезжаю! — повторила Бона.
Вот привязалась! Да купи ты себе плацкарт хоть в преисподнюю!
— Не забудь покормить Людоеда. Собачка мается, — попросил я в ответ, пропустив угрозу мимо ушей.
Блюдо с поросятиной полетело на пол.
— Я уезжаю! Не вздумай посылать за мной! — рычала Бона. — Повешу посыльного на первом же дереве! И сам не вздумай увязаться! Надо было скормить тебя лектуровскому альгвасилу! — Она выскочила из-за стола и понеслась к дверям. — Людоед! Душегуб! За мной!
Людоед, занятый пожиранием поросятины и ухом не повел на её речь. Душегуб грозно гавкну, но не ей, а мне.
Подзадорь её чем-нибудь! Пусть кинет и для меня! Фазанчика под грибками!
— Сам возьми, — рявкнул я собаке.
Из всех присутствующих мои слова понял только пес, не замедливший перемахнуть через стол, слопатив фазана.
— Сеньора Эберж, вы можете воспользоваться моей каретой, — позволил я покидающей меня любовнице. А ведь совсем не так давно хотел видеть её коленки в белых чулках у себя на плечах. Что ж не все хотелки сбываются.
— Катайся на ней сам, — огрызнулась Бона, сильным толчком распахнув двери в оранжерею. Беглянка буквально налетела на серьезного господина в черной коже, смуглого как узбек, и вооруженного что пехотная бригада ландскнехтов.
— Сеньора! — учтиво посторонился он, уступая Боне дорогу.
— Благодарю! — на бегу ответила разжалованная фаворитка и помчалась дальше.
— Подь сюда дружек, — поманил я пальцем слугу, державшим серебряное блюдо, заваленное фруктами. — Поставь тяжесть и проследи, сеньора Бона не должна заходить ни в библиотеку, ни в оружейную, ни куда-нибудь еще, кроме своих комнат.