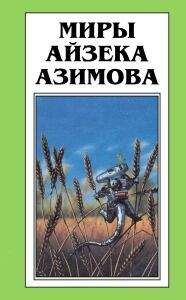Евгения Кострова - Лазурное море - изумрудная луна (СИ)
— За тобой придут, — сказал он, вытаскивая из-за пазухи диковинного сокола, выполненного из серебра, и сверкающего в его руках, когда ионовое голубое пламя поднималось над перьями, раскрытыми крыльями птицы, но кожу его не обжигал темный огонь, не оставлял на материи длинных рукавов испепеляющих троп. — Постарайся не совершать глупостей, — предостерег девушку мужчина, ставя со стуком на отполированную высокую малахитовую столешницу статуэтку.
— Этот подарок сделал мне один человек, что некогда спас мою жизнь, и он сказал мне, чтобы я отдал это лишь тому, кого сочту достойным, — Асир оглянулся на женщину, что смотрела на него открыто, без сомнений и страха, и искренняя улыбка осветила его лицо в лунных бликах, раскрывающейся на черном небе нефритовой чаши полнолуния. — При правильном использовании, можно воззвать к своим рукам бесконечное пламя, что не утихомирить ни одним дождем. Любая капля воды станет отраднее масла, ветер же станет колесницей и хлыстом, что бичом пронесутся над землей, и крылья пламенного сокола поглотят источник жизни и бассейн солнечного восхода, не оставив тепла. Теперь это мой подарок тебе, и как дань уважения перед пройденными тобою испытаниями.
Пустынный и завывающий ветер пронесся в застланные карминовыми занавесами покои, и пламя в высоких факелах угасало, как тонкая полоса свечи в расписных шандалах храма, и сумрачные голубые тени пали на их лица, сокрытые ночью и одеялом полуночной пиалы. Наполненные чудесным эфирным маслом можжевельника берилловые светильники чадили, отчего темно-серый дым клубился над их головами, обращаясь в диковинные звериные оскалы.
— Я не вижу в твоих глазах чудовищ, которым смотрел сотни раз в глаза, когда проходил через телесные пытки, пытаясь расколоть цепи рабства. То положение, которое я занимаю поныне, досталось мне кровью близких и любимых, которых я больше никогда не смогу увидеть, — его голос с дрожью надломился, и губы оттенка красной бузины сжались в тонную линию. — И хотя моя душа не проклята. Как твой бесславный род, руки мои в крови, а потому ты и я похожи. Я не знаю твоего имени, но в этих стенах сокрыто много пугающих и отвращающих тайн, поэтому бойся и будь осторожной, доверяй немногих, особенно своему сердцу.
В тени его лицо исказилось сочувствием, он с трудом сглотнул, словно ему было тяжело предпринять следующий шаг, и Асир ждал, когда она скажет ему хоть слово. Ему хотелось услышать ее голос, у него был дар — чувствовать красоту, отыскивать истинные жемчужины искусства, такого было видение предсказателя, что читал по его ладоням, мастера, что оставлял геральдические изображения на его спине. Он увидел ее пальцы тогда в царственных коридорах дома блаженства, в чарующем саде, где разносился аромат пионов, пожирающий и разожженный взгляд, павший на его музыкальный инструмент. Для творца звуков, возлюбленного поэта музыки — его инструмент, словно часть тела, и каждый музыкант ревностно относится к принадлежащему ему инструменту. Он увидел горящую страсть в ее глазах, и пальцы его в тот же миг заплакали кровью от жгучей ревности к своей музыке. И он хотел услышать мелодию ее голоса — тихого, как ропот волн и падение белой листвы вишни, наступающие гряды приливы, омывающий белый песок и плоские кристальные камни, растекающиеся звездной россыпью на одиноком берегу. Но девушка молчала и не смела говорить. И разочарование накрыло его с головой, так бывает, когда лишаешься остатков воли к спасению, погружаюсь на глубину, чувствуя, как легкие стремительно заполняет вода и наступает душащая темнота.
Асир ушел, оставив ее в своем одиночестве, и Айвен мирно сидела перед своим зеркальным отражением, раскрывающемся в высоком напольном зеркале с тяжелой золотой рамой, что обнимали ангелы и грифоны. Во взвеси кремово-прозрачных штор, поднимаемых и гонимых ночным теплым ветром, она увидела стоящую сапфировую арфу, по которой скользил единственный луч дневного близнеца, собрата по обители. Ничего прекраснее она не видела в своей жизни, и теплота захватила сознание. Ее босые ноги ступали по белым и красным лепесткам розы и гибискуса, и сень плавающих в воздухе бутонов, накрывало собой все видимое пространство, закрывая пейзажи далеких пирамидальных пилонов и бесчисленные башнеобразные сооружения из ослепляющих кристаллов.
Сапфировый камень был холодным, как лед, прожигая кожу. Укус холода оставил болезненную красноту на правой ладони и фалангах пальцев, вены под кожей поголубели, и даже в темноте она могла различить, бледность руки, которой она дотронулась до сверкающего инструмента. Но она была в одиночестве, и в этом было ее несокрушимое счастье. И забытая радость заполнила сердце, когда Айвен осторожно присела на высокий табурет из опала, отчего кончики ног болтались в воздухе, и золотые подвески в форме знаков зодиака заискрились радужным звоном на тонких цепочках браслетов. Она вспоминала ушедшие звуки музыки, снежные окраины ее родного дома, поля, затопляемые пшеницей и туманные дубравы, освещаемые бардовыми закатами, зной, стоящий в воздухе перед обрушивающимся летним ливнем. Дом был прекрасен в ее воспоминаниях. Дом был мягкими перинами, набитыми гусиными перьями и игрой цикад, поющих для одиноких чугунных ламп в черноте ночной, рябиновыми деревьями и березовыми рощами, холодным молоком и вкусом горячих лепешек со сладким черным изюмом. Тишь и тьма были ее слушателями, безликая и добрая луна обнимала, приглашая в свои жемчужные чертоги. И невидимым духом спускалась ночная богиня в своем белоснежном платье пены и эфира, прижимаясь к ней ликом, и серьги ее сияли звездою и космической пылью, как расколотое серебро. Айвен не знала, что ждет впереди, какая участь поджидает в мгновение следующего вздоха, поэтому и не боялась прикоснуться к запретному плоду удовольствия. Все было давным-давно потеряно, не осталось ничего, о чем можно было бы сожалеть. И потому она начала петь и играть. И изумительная волна сопрано унеслась в аметистово-черную вышину.
Первое соприкосновение с драгоценными струнами походило на удар по сердцу, нечто ужасное и злое пронзало сосуды и вонзалось в горло, когда тихая песня возвысилась к небесам и птицам, но музыка была столь притягательна, как алмазные блики солнца, скользящие по быстрой горной реке; как облака, струящиеся сквозь фазы лун и переменчивость ветров над северными просторами и широтами. Медленным течением была ее песня, и золотисто-изумрудные свечения светлячков скрещивали свет свой, из которого вырывались золотые соколы, несясь на солнечных крыльях в крылатой ночи к восходящей луне. И окунаясь в боль кровоточащих рук, она не ощущала поднимающегося в воздухе аромата алых роз и черных шипов, как густая сурьма, вкалывающихся в резные колонны и стены, пробивающая гравюры и рубиновые настенные панели, отчего на пол ливнем сыпалась крошка. Тенистые тернии прорезались сквозь камень стен, как ядовитые корни растения-паразита вламывались в росток чистого цветка, и скользящими, волнистыми трещинами пробивали потолок. И под белизной стен и темнотой черновых игл распускались бутоны удивительных красных роз.