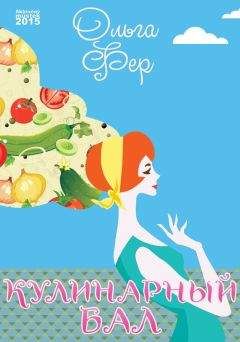Екатерина Казакова - Наследники Скорби
Простой люд на десятину не роптал. Купцы и ремесленники, кто побогаче, бухтели недовольно, но не все, а, видать, лишь те, кто стояли ближе к посадскому двору. Что ж… оно понятно, откуда вода мутится.
Вечером, лежа в натопленной бане, Глава Цитадели размышлял о том, как переломить радоньского посадника, заставить платить десятину, не утаивая барышей… Мертвую Волю наложить? Всех не поубиваешь, да и незачем. То ли дело славутской голова, пошедший на откровенный мятеж. Радоньский вроде платит. И платит немало. Вот только перед Цитаделью все равны должны быть. От босяка до боярина. Иначе не будет страха, не будет уважения, начнется смута. А ныне Ходящих хватает. Ежели, помимо нежити, еще и людей косить — вовсе один останешься.
Он дремал, вдыхая влажный банный дух.
Что же делать? Как вывести посадника на чистую воду? Как, не лишая жизни, не сея вокруг Цитадели страх и ненависть, заставить платить без утайки? Вот же мужичье клятое!
Скрипнула дверь.
— Господине…
Клесх с трудом разлепил один глаз и покосился на вошедшего. Крепкий парень работного вида, нос картошкой, стрижен под горшок. Стоит, мнет в руках шапку, а сам в испарине весь от жары и волнения.
— Ты кто? — спросил обережник.
— Господине, слово молвить дозволишь?
— В предбаннике хоть пожди. Что ж мне — бесштанному тебя выслушивать?
Парень покраснел, торопливо поклонился и вышел.
Клесх опрокинул на себя бадью холодной воды и направился следом.
— Ну, чего? — спросил он, обтираясь.
— Господине, ты ж Глава Цитадели?
— С чего взял? — Ратоборец неспешно одевался.
— Дак пояс твой видел. На торжище. Ты кошель доставал, а я рядом стоял, да и заприметил. Вот попросился до тебя у колдуна нашего. Он добро дал.
— Говори тогда, с чем пожаловал, раз глазастый такой. — Обережник вязал оборы.
— Сказать тебе важное хочу, но… — парень замялся, отводя глаза в сторону, — просьба у меня.
— Ишь ты. Еще и толком не объяснился, а уж просьба, — усмехнулся Клесх. — Говори сперва, а уж я решу, что с просьбой делать твоей.
— Я, Глава, после того, что молвлю, в живых могу не остаться. Хоть обещай, что в тайне сохранишь.
Вот те раз! Клесх смерил собеседника цепким взглядом:
— Ежели дело скажешь, ничего не бойся.
— Дело. Вот какое. Я — сын посадника Растея свет Долгенича.
— Больно уж ты нищий, для такого-то бати, — заметил крефф.
Парень потупился, сжимая в руках ношеную шапку так крепко, что пальцы побелели.
— Я сын евонный от робы. Сам робич. И… сестра у меня.
— Плохо держит Растей Долгенич сына своего…
— Как есть. Потому я до заката лет в робах и не хочу ходить, господине…
— А ко мне чего явился? Воли просить?
— Да.
Клесх покачал головой. Парня он понимал, но освободить его без дозволения отца не мог.
— Тут я тебе не помощник. Да и с чего бы?
— Я тебе дело скажу. Все, как есть. А ты… сделай так, чтобы с сестрой нас вызволить из-под ярма. Ты ж Глава. Тебе все по силам! — он говорил с жаром, видя в Клесхе единственную свою надежду.
— Объясняй свое дело. А я подумаю, можно ли тебе помочь. — Обережник помолчал мгновение и добавил: — И стоит ли.
— Я знаю, отец десятину не полную уплатил. Часть добра утаил. Могу сказать, где.
Мужчина нахмурился.
— Где же?
— Я в клети сплю, которая рядом с коровником, — начал рассказывать парень. — Отец ко мне под вечер подошел, да и в дом отослал, де, холодно, как бы не застудился. Да только какой холод, коли я до первого снега там ночую? А тут… ну и утресь я пришел, гляжу, а пол-то перебран. Доски вскрывали. Кто не знает, не заметит, да только мне каждая доска, как родная. Сразу увидал. А ночью я осторожно одну половицу-то отжал, приподнял, глядь, а там в подполье — бочки, тюки… Долгонько они там не пролежат — сыро. А несколько седмиц перетомятся…
Крефф усмехнулся.
— Вот оно как… говорил же — не все посадник на двор привез… — протянул Клесх.
— Господине, — подсел к нему ближе парень. — Спаси из-под ярма. Я тебе жизнь вручаю. Узнает Растей Долгенич — шкуру спустит…
— Верю. Я б тоже спустил…
Парень побелел.
— Да не дрожи. Придумаю что-нибудь. Сестре твоей сколько?
— Как мне. Восемнадцать весен.
— Ясно. Один ты у отца робич-то?
— Один…
— Иди покуда. Подумать надо. Нет, стой. Звать как тебя?
— Уруп, — буркнул тот.
* * *…Растей Долгенич растекался сладким медом. Слова меж собой сплетал — любому поучиться. Такую вязь вывязывал — заслушаешься. Клесх кивал боярскому сходу, делая вид, будто сладкие речи ему приятны. Посадник душой воспрянул. Он-то боялся увидеть цепкого и злобного мужика, а приехал молодой, на лесть податливый. С таким дело сладится! Про себя же гадал, чем славутский голова не угодил обережнику, нешто не мог красно говорить?
И, держа в уме печальную кончину славутчанина, Растей заливался соловьем. Обережник с довольным видом кивал, обрадованный, видать, тому, что хоть здесь ему не чинят препон и к приезду уже все собрали без роптаний. В душе свет Долгенич только диву давался глупости иных посадников и старост — к чему перечить, зачем супротив воли идти? Кивай да соглашайся. Ан делай по-своему.
— По сердцу мне, что в Радони с понятием подошли к наказу Главы. Видел, видел, как расстарались вы. Добра немало собрали. Скоро детинец поставите, сынов своих туда отдадите, и жизнь спокойнее будет. Не станут уж нас так донимать. Вот ты, Растей Долгенич, кого из сынов своих отдашь в дружину? Ты посадник — другим пример и наука.
Обережник замолчал, а городской голова смешался. Сынов к сторожевикам? Кровь родную? На нежить ходить?! А убьют? А покалечат? Видимо ли дело — люди простые супротив Ходящих!
— Э-э-э… — протянул Растей.
По счастью, Глава сам на помощь пришел:
— Я ж не супостат какой. Поди, у каждого тут робичи есть? Их и присылайте.
Посадник оживился, радуясь, что не требуют с него драгоценных наследников:
— Урупа тебе пришлю, господине. Он парень двужильный. В хозяйстве нам подспорье, но за ради дела такого, разве ж я стану артачиться?
— Дело говоришь, — одобрил ратоборец. — Значит, порешили. Парня своего завтра присылай, рабочие руки нужны. Клети надо поставить, чтобы добро сберечь, да и стружия заготавливать уж пора, стрелы… А то будет дружина к весне голая и безоружная. И вот еще что. Завтра соберите сюда люд. Говорить буду.
Купцы и бояре переглядывались, не понимая, о чем Главе беседовать с простолюдинами. Однако спросить не осмелились.
* * *На следующий день двор перед избой обережников ломился от народа. Клесх вышел на крыльцо, окинул многоголовое волнующееся море коротким взглядом и сказал, разом перекрывая нестройный гомон: