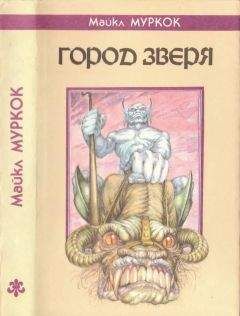Майкл Муркок - Город в осенних звездах
Корабль наш наконец приземлился. Мы с Сент-Одраном закрепили его прямо за высокою городскою стеною этого дивного города-квинтэссенции Майренбурга. Мы вошли в город, — все вчетвером, — перед самым рассветом, когда мерцание древних звезд отступало уже перед светом солнца. В домах Майренбурга зажигались уже очаги. Над крышами появились первые струйки дыма. Где-то выкрикивал неутомимое свое утреннее бахвальство петух. У ворот из синего обсидиана нас встретил единственный стражник с опухшим со сна лицом этакого буколического пастушка. Зевая и застегивая на ходу ворот серой с желтом рубахи, он поприветствовал нас вялым небрежным взмахом руки и пропустил всех четверых, даже и не взглянув на нас лишний раз. Однако Сент-Одран, — переживая о том, что наше золото могут украсть, — подошел к нему и попросил хотя бы в полглаза приглядывать за воздушным шаром, который мы прикрепили веревками к дубу, что рос на лугу в пределах видимости от городских ворот. Стражник, в свою очередь, пояснил, что он поставлен здесь не для того, чтобы что-то вообще охранять и допытывать тех, кто выходит из города или входит в него, а для того, чтобы отвечать на расспросы всякого странника, с городом незнакомого; он, впрочем, пообещал присмотреть за шаром, хотя при этом и насупился недовольно.
— А он останется таким, как теперь, ваше превосходительство, или изменится как-нибудь? Я, знаете ли, опасаюсь всякого колдовства. Сент-Одран открыл было рот, чтобы объяснить, что к чему, но потом передумал и сказал просто:
— Уверяю вас, нашего корабля вам бояться не нужно. — Мы были теперь в том Майренбурге, где рационализм нам мог бы быть понят несколько неадекватно. Дорогу, похоже, знал один Клостергейм. Город оказался совсем не таким, как оставленный нами Майренбург, хотя многие здания и расположение улиц были мне знакомы. Городская архитектура по большей части представляла собою строгий, даже какой-то безликий стиль, безо всякого барочного налета, каковой можно было бы ожидать: стиль, я бы сказал, классический, в подражание зодчеству Древней Греции.
Город уже просыпался. Мы пересекли какую-то громадную площадь, в центре которой располагался фонтан с каменным изваянием лошади, возвышающейся над бассейном, где плавали рыбки, — алые и золотые, синие и бледно коричневые, — в их красках, казалось, отражается свет гаснущих звезд. Четыре широких улицы расходились от площади безупречно прямыми лучами, теряясь в перспективе точно по направлениям четырех сторон света. Мостовые их были выложены черным зеркальным мрамором с серыми прожилками, здания, их обрамляющие белым ониксом и кварцем. Зрелище, на мой взгляд, потрясающее. Оно напомнило мне монументальную холодность Санкт-Петербурга — города, призванного воплотить в себе представление человека о совершенном граде, в отличие от тех городов, что растут как бы сами по себе, сообразно потребностям их обитателей. Пройдя через площадь, мы оказались в квартале узеньких улочек, загроможденных лотками с фруктами и овощами, и крытых аллей, уже заполненных толпами горожан, весело перекликавшихся вдруг с другом. Их разговорный немецкий пришелся бы весьма к месту где-нибудь в Мюнхене или Кельне.
Повсюду в домах уже поднимались жалюзи и оконные фрамуги, распахивались ставни и разворачивались навесы. Люди выглядывали из окон, щурясь на утренний свет. Подзывали собак и кошек. Опорожняли помойные ведра. Жены будили мужей, мамаши звали детишек. Семейства собирались к завтраку. Важного вида купцы — горделивые, даже величественные — одетые, может быть, и не совсем по последней европейской моде, но, на мой взгляд, вполне прилично, учтиво приподнимали свои котелки, кланяясь дамам в пышных кринолинах и жалуясь им на жару:
— К полудню, мадам, вот увидите, будет уже настоящее пекло!
Меня не покидало странное чувство, что я все это вижу во сне. Среди причудливой фантасмагории мира снова нередко ведь возникают такие вот незатейливые, банальные даже сценки. Я запрокинул голову, глядя на шпиль колокольни высотою, наверное, в две сотни футов, сложенной из камня цвета красного дерева. Шпиль устремлялся ввысь острой иглой на голубом фоне летнего неба, увенчанный каменным изваянием: ребенок, в слезах созерцающий разбитое блюдце, которое держал он в пухленькой ручке. Мы прошли мимо таверны, большой, в пять этажей, с балкончиками и буйно разросшимся садом на крыше; мимо игорного дома, способного вместить человек, наверное, шестьдесят одновременно; мимо мавзолея из небывалого бледно голубого гранита, отшлифованного до зеркально блеска. Прошли мы по улочке полуразрушенных обветшалых домов, кишащих веселою шумною ребятнею; по извилистой тенистой аллее — вверх по склону холма к маленькой тихой площади, где здания были все в основном из песчаника, с уединенной кофейней, громадною елью и колодцем посередине. За столиками, выставленными на улицу, сидели чинные господа средних лет, — человека четыре-пять, — читали газеты, вели беседу. Обслуживал их официант в маске какого-то зверя. Смуглый, взлохмаченный, даже двигался он как-то странно, словно бы вместо сапог у него были копыта Пана.
Мы прошли по мосту над каналом, который мог бы достойно соперничать с любым из каналов Венеции. Зеленые воды цвета изумруда, позолоченные лодки… и человек в одной рубашке, без сюртука, правящий лодку шестом — лодку, столь причудливо изукрашенную резными фигурами Нептуна, русалок, дельфинов и прочих обитателей морских глубин, что как-то даже не очень и верилось в то, что она несет столь прозаичный груз: капусту и лук. Ярдах в двадцати от моста дрейфовала у берега точно такая же, но затонувшая лодка. Нос ее уныло торчал из воды, деревянные бока давно уже заросли мхом. Ослик спустился к каналу, зашел в воду по брюхо, остановился, обнюхал обломки злосчастной лодки, вернулся на пристань и отряхнулся. Брызги вспыхнули в сиянии солнца. На каждом балконе сушилось белье.
Окна распахивались навстречу утреннему свету. Ослик пронзительно закричал, словно бы дверь, которую не трогали лет, этак, сто, провернулась на ржавых петлях. Какие-то люди в сутанах с капюшонами прошли нам навстречу. Поравнявшись с нами, все они, как один, подняли пальцы, сложенные в некоем приветственном жесте, неведомом мне. Клостергейм машинально ответил им тем же таинственным знаком. Мы завернули за угол и вышли на короткую улочку, проходящую как бы между двумя небольшими холмами, чьи зеленые склоны, заросшие густою травою, поднимались к домам из красного камня; в конце этой улицы виднелся каменный пьедестал, а на нем какая — то громадная бронзовая маска, типа как у актеров греческой трагедии, со скорбно опущенным ртом и выражением мучительно лютой свирепости. Назначение ее было мне непонятно.