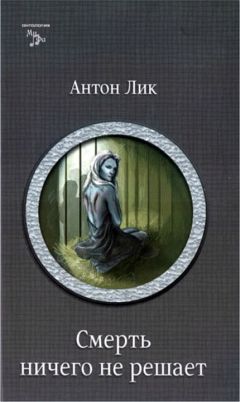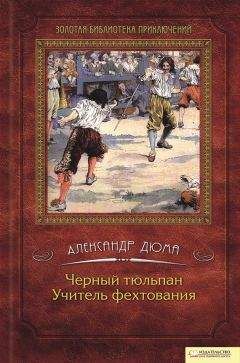Екатерина Лесина - Наират-2. Жизнь решает все
И вдруг подумалось: а если батя переломится окончательно? Не выдюжит, вон ведь еще телега целая! И что тогда? Неужели сегодня? Вот так возьмет и отдаст топор навсегда?! Сам за левым плечом станет, как тогда, когда учил, и будет лишь смотреть да советами помогать? А ведь это не дровишки и не овцы на дядькиной скотобойне, тут промах — вовсе не тот. Спустил по косорукости на три пальца ниже и всё, по шеяке надобно второй стучок или даже третий. А бедолага с перебитой хребтиной мается, култыхается и хрипит. Хотя ж вот толпишка мазню любит, свистят тогда, гогочут да заклады ставят.
Но отец возвернулся к делу. Замах. Хруст. Эх, еще один удар, и только после него голова шлепнулась в корзину — точно пора выволакивать. Кровящее тело завалилось набок.
Устал отец. И сын устал, хотя и не он сегодня стучит.
В какой-то миг, отвернувшись от плахи, среди редких зрителей помощник увидел человека в грязном плаще. Увидел и удивился тому, до чего уродлив тот был. Лысая голова бугрилась мелкими язвами, которые сползали на левую щеку, а с неё на подбородок, раздувая его пузырем. Правая же сторона, сплошь покрытая белыми рубчиками, лоснилась сукровицей. Человек стоял, опираясь на кривую палку, и неотрывно наблюдал за происходящим на помосте.
— Куда ты пялишься?! — сердито рявкнул отец, вытирая тряпкой взопревший лоб. — Уноси колпачину, полная уже.
Помощник палача, в последний раз кинув взгляд на странного типа — кажется, рядом с ним появилась еще одна фигурка, мелкая, юркая, серо-неприметная — и поспешил заняться делом. Кое-как доволок корзину, потом и тело, и следующее, и еще одно…
Последняя полудюжина — воистину жуть жуткая, ни одного чистого ударчика, все с недорубом или протяжкой. Что ж ты, батя?
Злился отец. Уже непонятно, на кого: на кагана с его приказом, на себя ли, слабосильного, или на длиннющую вереницу смертничков, что по-дурости вы́бегали себе приговор, а ему, мастеру катных дел, столько работы. И уже не радовали его монеты, потонули в крови, смешались с перерубленными костями и хрящиками. Оно ведь ясно. За то, видно, и мстил последним покойничкам нецелкими ударами и лишним мучением. А что им сделается-то, дуракам-трупякам, так что ли?…
Нельзя так, батя. Нельзя.
Вечером, упав без сил в кровать, молодой помощник дал себе важный зарок.
— Смотри, смотри. — Пальцы Аттонио крепко держали за запястье, а острый локоть упирался в бок, становясь еще одной точкой опоры. — Это все ты.
Дюжина шагов пролегла до жиденькой цепи стражников, уже изрядно уставших за день, тем паче день этот повторялся снова и снова. Он начинался у ворот городской тюрьмы караваном, что пробивался сквозь толпу скулящего бабья и полз по улицам Ханмы — где стремительно, деревом, глиной, кирпичом да известью зарастали раны — чтобы достичь площади перед хан-бурсой. Той самой площади, на которой еще виднелись обожженные остовы клеток, стоял столб с цепью и висели киноварные полотна. Дикий жеребец готовился бежать по новым головам. Сколько же умерло здесь? Под сип усталых труб, под голос глашатая, читающего очередной приговор, под взглядами немногих зрителей, кому еще не опротивели затянувшиеся казни.
— Сегодня только тридцать. Вчера было почти пятьдсят, — продолжал говорить Аттонио, точно не видел, что Турану и без его слов тошно.
Нет, не этого он ждал от первого выхода в город, от вылазки, которая внушала и страх, и надежду. Он ведь так и не поверил до конца, он ведь точно знал, что убил, а значит, все сказанное Аттонио — ложь.
— Именем ясноокого кагана Ырхыза, — загундосил глашатай. — За участие в мятеже, за сговор…
— Смотри, хорошенько смотри, Туран ДжуШен. Это не они убивают, это ты убиваешь. Каждого из этих людей. И из вчерашних. И из позавчерашних. Даже я не знаю, сколько их было. Сто? Двести? Тысяча? Радуйся, Туран ДжуШен, ты ужалил толстозадую Ханму. И теперь она злится.
Хорошо, место такое, что не видно подробностей происходящего на помосте. Туран бы не вынес, когда б с подробностями. Неправильно все. Не он виноват, а город и весь Наират, страна сумасшедших, которая очередным безумием сделала мертвого живым, а теперь брала щедрую плату за такой обмен.
— А чего ты ждал?
Не этого. Не старухи, которая шустро сновала между стражников с двумя корзинами на коромысле: в одной пироги, укутанные от мух холстиной, в другой долбленки с родниковою водой. Не привычного запаха жареного мяса, что доносился от дверей лавчонки, и не купца, осмелевшего и вытащившего на площадь коробку с амулетами.
— От рожи, от рожи, — кинулся он к Турану, тряся связками луженых бубенчиков. — От язв, от нарывов, от шрамов!
— Пшел, — отмахнулся Аттонио палкой и, не выпуская Турановой руки, потащил за собой. — От рожи… Рожа у него самая та, исключительно правильная. Точно соответствующая!
То же самое он когда-то сказал и в подземелье.
На немоту лица Туран не сразу обратил внимание, хватало и без того: боль, которая сопровождала выздоровление, выматывала почти также, как редкие, но мучительные монологи Аттонио, будто решившего свалить на Турановы плечи все грехи мира. Едкие реплики мэтра пробивались сквозь деланное равнодушие, подталкивали сначала вставать, потом, опираясь на скользкую стену пещеры, ходить. Треклятая дыра в ноге обещала вечную хромоту, и левая рука, переломанная при падении, срослась неверно: пальцы теперь почти не слушались. Сколько ни пробовал в кулак собрать — застывали раскоряченной птичьей лапой.
Так где тут было о лице думать? Не болит и ладно. А что онемевшее, так из-за ссадин да мазей Аттонио. Но однажды мэтр принес зеркальце, заботливо укутанное куском шелка. Им же долго полировал гладь, потом подлил масла в лампу, и тогда поманил Турана.
— Держи. — Мэтр протянул зеркало. В полторы ладони, по изнанке вязь серебряных цветов, из которых уже выколупали камушки, и поверхность, перечеркнутая трещиной, но не утратившая изначальных свойств.
Она отражала темноту, нити-сталактиты, лампу с дрожащим огнем.
И Турана.
— Не урони. Ты себе не представляешь, до чего сложно найти хорошее зеркало в этом городе. Оп-па! — Заботливый Аттонио перехватил враз ослабевшую руку, крепко сдавил пальцы, поднял так, что не осталось возможности не смотреть. — Я помогу. Я ведь должен тебе помогать. Верно?
Лицо гнило. Оно вспухало нарывами, которые, темнея, разрывались, вываливая розоватую мякоть плоти. Лицо стекало гноем и застывало причудливыми восковыми наплывами. Зарастало мелкими шрамами… Лицо?! Его больше не было.
Туран, осторожно коснувшись щеки — несколько нарывов лопнули, но он не почувствовал ничего — посмотрел на пальцы.