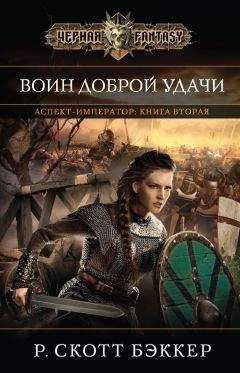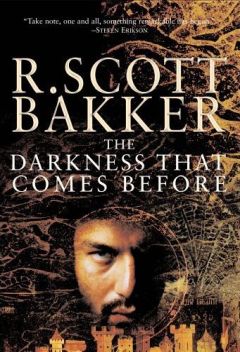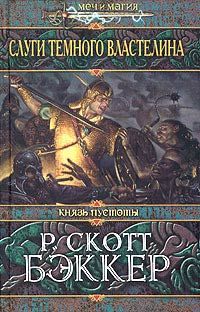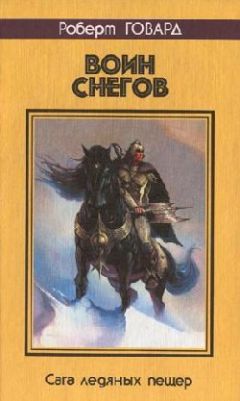Р. Бэккер - Воин кровавых времен
— Да, — согласился Ксинем.
Он смотрел куда-то в ночь и улыбался… Ахкеймион понял, что эта улыбка адресована ему, своему другу.
— Как дитя? — переспросил Ахкеймион, отчего-то и сам чувствуя себя ребенком.
— Да, — отозвался Келлхус. — Не спрашивай, Акка. Просто так есть… Безоговорочно, полностью.
Он повернулся к колдуну. Ахкеймион очень хорошо знал этот взгляд — тот самый взгляд, который он так желал встретить, когда внимание Келлхуса было обращено на других. Взгляд друга, отца, ученика и наставника. Взгляд, в котором отражалась его душа.
— Она стала твоей опорой, — сказал Келлхус.
— Да… — отозвался Ахкеймион.
«Она стала моей женой».
Вот это мысль! Он просиял от детской радости. Он чувствовал себя великолепно пьяным.
«Моя жена!»
Но позднее, той же ночью, как-то вдруг получилось, что он занялся любовью с Серве.
Впоследствии он даже не мог толком припомнить это — но проснулся он на тростниковой циновке у потухшего костра. Ему снились белые башни Миклаи и слухи о Мог-Фарау. Ксинем и Келлхус ушли, а ночное небо казалось невероятно глубоким, как в ту ночь, когда они с Эсменет спали у разрушенного святилища. Глубоким, словно бездонная пропасть. Серве опустилась на колени рядом с ним, безукоризненная в свете костра; она улыбалась и плакала одновременно.
— Что случилось? — изумленно спросил Ахкеймион.
Но потом до него дошло, что она задрала его рясу до самого пояса и легонько перекатывает его фаллос по животу. Тот уже затвердел — прямо-таки безумно.
— Серве… — попытался было возразить он, но с каждым движением ее ладони его пронзала вспышка экстаза.
Он выгнулся, пытаясь прижаться к ее руке. Почему-то казалось, будто все, что ему нужно, — это чувствовать ее пальцы у самой головки его члена.
— Нет… — простонал Ахкеймион, вжимаясь пятками в землю и цепляясь за траву.
Что происходит?
Серве отпустила его, и он задохнулся от поцелуя прохладного воздуха. Он чувствовал, как бешено пульсирует в жилах кровь…
Что-нибудь. Ему нужно что-нибудь сказать! Этого не может быть!
Но она легко выскользнула из своей хасы, и он задрожал от одного ее вида. Такая стройная. Такая гладкая. Белая в тени, отливающая золотом в свете костра. Ее персик нежно золотился. Она больше не прикасалась к нему, но ее красота воспламенила его, и в паху мучительно запульсировало. Он сглотнул, тяжело дыша. Потом она оседлала его. Он успел заметить, как качнулись ее фарфоровые груди, увидел изгиб гладкого живота.
«Она что…»
Она уселась на него. Он вскрикнул, выругался.
— Это ты! — прошипела она, отчаянно глядя ему в глаза. — Я могу видеть тебя. Я могу видеть!
Он в исступлении запрокинул голову, боясь, что кончит слишком быстро. Это была Серве… Сейен милостивый, это была Серве!
А потом он увидел Эсменет, одиноко стоящую в темноте. Она стояла и смотрела…
Он зажмурился, скривился и кончил.
— А-ах… аххх…
— Я могу чувствовать тебя! — воскликнула Серве.
Когда он открыл глаза, Эсменет исчезла — если она вообще была там.
Серве продолжала тереться о его кожу. Мир превратился в мешанину жара, влажности и гулких хлопков бьющейся об него красавицы. Он сдался, уступив ее напору.
Каким-то образом Ахкеймиону удалось проснуться до пения труб, и некоторое время он сидел у входа в палатку, глядя на спящую Эсменет и чувствуя на своих бедрах засохшее семя. Когда Эсменет проснулась, он заглянул в ее глаза, но ничего не увидел. Во время долгого, трудного перехода того дня она отчитала его за пьянство, только и всего. Серве вообще не глядела в его сторону. К вечеру Ахкеймион убедил себя, что это был сон. Восхитительный сон.
Перрапта. Другого объяснения быть не могло.
«Вот ведь гребаный напиток!» — подумал Ахкеймион и попытался ощутить сожаление.
Когда он рассказал об этом Эсменет, та засмеялась и пригрозила, что наябедничает Келлхусу. Позднее, оставшись в одиночестве, Ахкеймион даже расплакался от облегчения. Он понял, что никогда, даже той безумной ночью в Андиаминских Высотах, не чувствовал такой обреченности. И он знал, что принадлежит Эсми — а не миру.
Она — его завет. Она — его жена.
Священное воинство подбиралось все ближе к Шайгеку, а Ахкеймион по-прежнему игнорировал свою школу. Он мог придумать этому различные оправдания. Он мог сказать, что невозможно расспрашивать людей, давать им взятки или лезть со своими предположениями, когда находишься в лагере вооруженных фанатиков. Он мог напомнить себе о том, что школа сделала с Инрау. Но в конечном итоге это ничего не значило.
Он ринулся на врагов. Он видел свою ересь насквозь. Но ему было неважно, какие ужасы ждали его впереди. Впервые за долгую бродячую жизнь Друз Ахкеймион обрел счастье.
И на него снизошел покой.
Дневной переход выдался особенно утомительным, и Серве сидела у костра, растирая ноющие ноги — и смотрела поверх огня на своего любимого, Келлхуса. Если бы только так было всегда…
Четыре дня назад Пройас отправил скюльвенда на юг, дав ему несколько сотен рыцарей, — как сказал Келлхус, разведать дорогу на Шайгек. Четыре дня ей не приходилось натыкаться на взгляд его голодных, злобно сверкающих глаз. Четыре дня ей не приходилось съеживаться в его железной тени, когда он вел ее в шатер. Четыре дня ей не приходилось терпеть его ужасающую свирепость.
И каждый день она непрестанно молилась — пусть его убьют!
Но на эту молитву Келлхус никогда бы не ответил.
Она смотрела, любовалась и восхищалась. Его длинные белокурые волосы отливали золотом в свете костра; лицо лучилось добродушием и пониманием. Ахкеймион заговорил с ним о чем-то — должно быть, о колдовстве, — и Келлхус кивнул. Серве не обратила особого внимания на слова колдуна. Она смотрела на лицо Келлхуса, и это поглощало ее всю, без остатка.
Она никогда не видела подобной красоты. В его внешности было нечто нереальное, божественное, не от мира сего. Поразительная изысканность, невероятное изящество, нечто такое, что в любой миг могло вспыхнуть и ослепить ее откровением. Лицо, ради которого билось ее сердце…
Дар.
Серве положила ладонь на живот, и на миг ей почудилось, будто она ощущает второе бьющееся в ней сердце — крохотное, словно у воробушка, — и его биение словно бы усиливалось с каждым мигом.
Его дитя… Его.
Как все переменилось! Она была мудра, куда мудрее, чем надлежало быть двадцатилетней девушке. Мир обуздал ее, показав ей бессилие насилия. Сперва сыновья Гауна и их жестокая похоть. Потом Пантерут и его неописуемая грубость. Потом Найюр с его безумием и железной волей. Что для такого человека, как он, могло значить насилие над слабой наложницей? Это просто была еще одна вещь, которую следовало сокрушить. Она поняла, что все ее усилия тщетны, что таящееся в ней животное будет унижаться, пресмыкаться и визжать, вылижет член любого мужчины, вымаливая пощаду, сделает все, что угодно, удовлетворит любое желание — лишь бы выжить. Она постигла истину.