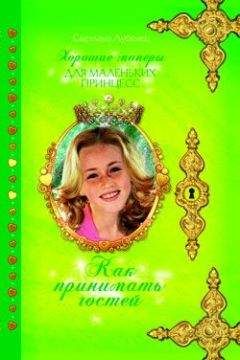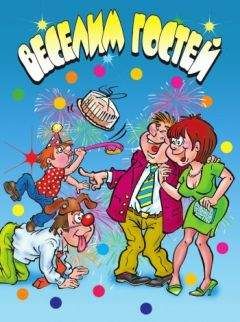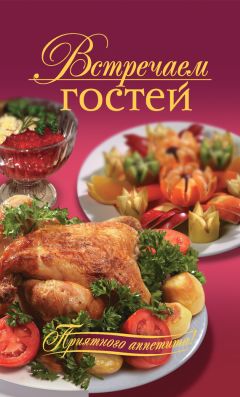Юлия Набокова - Шерше ля вамп
Стрелки старинных часов у окна мерно отсчитывают время, все дальше уводя от тех минут счастья, когда Вацлав был жив, когда смотрел на меня, когда прижимал к себе, желая укрыть от всего мира. Тик-так. Все дальше от его прикосновений, обжигающих, как костер, все дальше от его жгучих взглядов, рождающих в душе целую бурю. Тик-так, тик-так…
Я оплакиваю нашу несостоявшуюся любовь, наше несбывшееся счастье. Я никогда не узнаю, каково это — быть его женщиной, ощущать его своим. Тик-так, тик-так.
Свечи, оставленные на столе, догорают, и теперь зал освещается только лунным сиянием. Кажется, что в нем вот-вот оживут призраки вампиров, которые умерли здесь, но даже призраки не смеют нарушить наше с Вацлавом последнее свидание. Только он и я. Его голова на моих коленях. Его холодная рука в моих окоченевших от горя пальцах. Мои отчаянные поцелуи на его колючих щеках. Мое дыхание на его губах. Мои слезы на его неподвижных ресницах.
Тик-так, тик-так…
Мои пальцы тянутся к сердцу Вацлава в отчаянной попытке разбудить его от смертельного сна, но натыкаются на внезапную преграду. Под подкладкой куртки я нащупываю кусочек картона. Я замираю — он носит его во внутреннем кармане под самым сердцем. Что же это? Листок слишком мал для документов, но крупноват для визитки. Это фотография? Я бросаю взгляд на неподвижное лицо Вацлава и медлю, терзаемая соблазном. Чье изображение он носит под самым сердцем? А вдруг… сердце пропускает удар… мое? Искушение велико, но я неожиданно робею. Рука замирает на застегнутой до середины молнии куртки, не решаясь добраться до внутреннего кармана. Кажется, стоит только протянуть руку — как Вацлав перехватит ее и насмешливо посмотрит в глаза, уличая в постыдном поступке. Даже сейчас, будучи мертвым, он бдительно охраняет свою тайну…
Я еще сомневаюсь, но пальцы нетерпеливо дергают молнию и устремляются к заветному кусочку картона. Чувствуя себя дерзкой воровкой, я бросаю настороженный взгляд на лицо Вацлава, но на нем не дрогнет ни единый мускул. И тогда, решившись, я вынимаю картонку из внутреннего кармана куртки. Мои надежды увидеть на ней свое лицо разбиваются в прах, когда я вижу обратную сторону карточки — пожелтевшую от времени, истертую миллионом почтительных прикосновений, его прикосновений, с загнутым уголком, с потемневшей капелькой крови от старого ранения, с размашистой надписью латиницей на память и датой — 1843 год. Боже, какой он взрослый… Он старше меня почти на полтора века. Хотя какая теперь разница?
Я медлю не в силах пошевелиться, не решаясь взглянуть в лицо той, кто занимает все его мысли спустя долгие годы после смерти. Но безжалостная память вызывает в памяти образ, который я видела в глазах Вацлава в тот вечер, когда убили Глеба и когда я в запальчивости бросила Гончему, что он не знает, что такое — потерять любимого человека. Тогда на какую-то долю секунды самообладание ему изменило и я каким-то особым, присущим вампиру, видением углядела миловидную блондинку со старомодной прической и почуяла боль утраты, которая жила в сердце Вацлава все эти годы.
Я повернула карточку и встретилась с блондинкой лицом к лицу. Это была даже не фотография — портрет. Краски на нем давно выцвели, превратив нарисованную девушку в призрак далекого прошлого. Но даже время не стерло счастья в ее глазах, не тронуло улыбки на ее лице. Так улыбаются женщины, которые любят и любимы, так высоко держат голову те, у кого за спиной разворачиваются крылья. И эти крылья ей подарил Вацлав. Когда-то они летали вместе. Потом он больше века ходил по земле один, оплакивая ее и не забывая о ней ни на минуту. Быть может, в эту ночь они встретились где-то в облаках…
Трясущими пальцами я вложила карточку обратно в карман и попыталась застегнуть куртку. Руки меня не слушались, молния поддалась только с десятой попытки и стоила мне поломанного ногтя. Спи, Вацлав, а я буду верить в то, что ты нашел свою давным-давно потерянную любовь…
Тик-так, тик-так…
Тают лунные кружева в предрассветном зареве, и первые солнечные лучи, касаясь портьер на окнах, наполняют бархат изумрудным мерцанием и настойчиво подбираются к краю занавесок, чтобы шальным солнечным зайчиком скользнуть в зал.
Лицо Вацлава умиротворенное, как во сне. И, глядя на светлеющее небо, я тешу себя напрасной надеждой, что он проснется. Дрогнут ресницы, когда их коснется солнечный лучик, шевельнется родинка у края глаз, со вздохом приоткроются губы, сожмутся пальцы, отзываясь на прикосновение моей руки… Ну и пусть его сердце навеки отдано той, другой. Я буду просто счастлива оттого, что смогу видеть его, говорить с ним, дерзить ему…
Солнце робко проникает в комнату, отвоевывая пространство у тени, и полоска света начинает двигаться к нам — медленно, слишком медленно. Ну давай же, молю я, быстрее, разбуди его, пусть он откроет глаза, поторопись же! Целая вечность проходит до того момента, как солнце окрашивает красным разметавшийся по полу подол платья. Ночью оно казалось совсем черным, траурным, сейчас же вновь заискрило-заиграло алым цветом. Медленно, очень медленно солнечные лучи взбираются по шелковым складкам, словно окрашивая их кровью, карабкаются ко мне на колени, каленым железом впиваются в кожу. Я стискиваю зубы, чтобы не вскрикнуть, но не убираю руки, чтобы не потревожить спящего Вацлава. Кожа на руке стремительно краснеет, еще немного — и вздуются волдыри, но я сижу не шелохнувшись и жду, пока солнечные лучи не взбегут по плечам Вацлава, чтобы наконец нырнуть в сердцевину его губ, поцеловать его осунувшиеся щеки, высветлить волосы и вернуть его к жизни.
Солнце жжет мои руки, выжигая слезы из-под ресниц. Алый шелк платья разметался вокруг пожаром, и кажется, что я горю в самом его эпицентре. Но все тщетно. Не дрогнут черные ресницы, и рука в моей руке холодна, как антарктический лед. Ладонь немеет от холода, кисть все краснеет от палящего солнца, перед глазами пелена, на губах — соль Мертвого моря. Он не проснется. Никогда. Он уже обнимается с другой в облаках.
Слезинка падает на смуглый лоб Вацлава и испаряется без следа. Я касаюсь пальцами лба и отдергиваю их, обжегшись. Да он просто горит! Чувствительная к солнцу кожа вампира и после смерти реагирует на свет. Щетина защищает щеки от ожога, но кожа вокруг глаз и на лбу красная, как у модницы, переборщившей с солярием. Если бы Вацлав сейчас открыл глаза, как бы я посмеялась над его комичным видом! Но вместо смеха в горле ком, на душе — смертельная тоска. Я давлюсь рыданиями и наклоняюсь к нему, закрывая от солнца. Пусть лучше спалит дотла меня.
Мои слезы текут по его потрескавшимся от солнца губам. Я ослепла от горя и не могу видеть, но слышу, как его губы глотают мои слезы. Этот звук, подобно грому, оглушает меня. Я торопливо вытираю влагу с глаз — и вижу, как двумя крылами взлетают его ресницы, и тону в его глазах, в которых больше нет черноты. Только ясное солнечное утро.