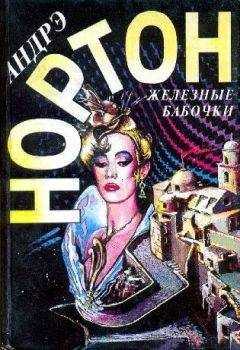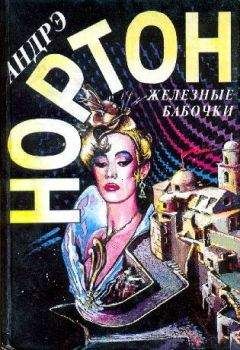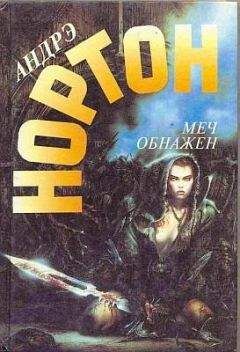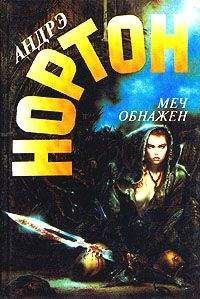Андрэ Нортон - Железные бабочки. Удача Рэйлстоунов
Поездка по суше оказалась не удобнее морского плавания. Мы с графиней долгие часы проводили в большой громыхающей карете, Катрин сидела перед нами спиной к лошадям; карета раскачивалась и подпрыгивала на рытвинах плохих дорог. Полковнику и графу было лучше; они ехали верхом и держались перед нашей качающейся тюрьмой вместе с охраной. Другой небольшой отряд стражников ехал за процессией повозок и каретами с багажом и ожидавшими нас слугами.
Эти слуги по утрам уезжали вперёд, занимали гостиницу, изгоняли всех других посетителей, заправляли постели нашим бельём, готовили нам еду и ожидали нашего прибытия. Меня удивляло, что мы останавливались только в гостиницах; в моей стране в обычае навещать ближайшее имение или плантацию у дороги, где путников всегда встречают с открытым гостеприимством. Однако, решила я, европейские обычаи, по–видимому, совсем другие.
В конце концов, пережив тошноту от долгого заключения в карете, скуку бесконечных дней за плотно задёрнутыми занавесями (графиня утверждала, что от света у неё болит голова), мы в начале вечера с грохотом въехали на булыжные улицы Аксельбурга.
Графиня, которая большую часть последнего дня дремала, выпрямилась и отвела занавеску. Я увидела фонари и иногда стены домов. Карета остановилась, открыли дверцу, в лицо ударил ослепительных свет, нас встречало множество слуг в ливреях.
Разминая затёкшие ноги, я осмотрелась и увидела, что мы въехали во двор, окружённый стенами, и что перед нами внушительный дом, а вовсе не гостиница. Графиня поправила свои юбки и сделала реверанс.
— Миледи, — сказала она по–английски, — прошу входить. Это Гуттерхоф, наш дом.
Дворец был по меньшей мере трёхэтажный и, хотя во множестве окон горели огни, напоминал скорее крепость, чем жилой дом. Но то, что путешествие наше наконец окончилось, заставило меня с радостью посмотреть на один из древних домов Аксельбурга, хотя он и показался мне уродливым и угрожающим. Внутри мы вслед за лакеем, несущим подсвечник с целой кучей свечей, прошли через обширный зал. К лакею сразу же присоединились две женщины. Одна в богатом платье пошла впереди, другая, в переднике служанки, сзади. В таком сопровождении я поднялась по лестнице и прошла по коридору. И вот меня с церемониями ввели в огромную комнату, где даже четыре подсвечника, такие же, как у нашего лакея, не разгоняли тьму.
Комната показалась мне поистине королевской. Сама кровать была большой пещерой, закрытой занавесями, свисавшими со столбов. Кроме того, у кровати имелся полог и у изголовья размещался резной герб с фантастическими животными; огонь свечей отражался в их яростных глазах, на клыках и других частях бронированных тел.
Занавеси, толстый ковёр под ногами, шторы, за которыми должны скрываться окна, — всё синее, потускневшее от времени. Те участки стен, которые я увидела, покрывали панели, разрисованные цветами, которые переплетались, как в джунглях или в лесу, окружавшем в старых сказках спящую красавицу.
Небольшой туалетный столик из слоновой кости с позолотой словно задержался здесь по ошибке, а потом был слишком напуган, чтобы сбежать. Он жался к стене у кровати. Несколько древних стульев, похожих на трон с высокой спинкой, и других, более современных, стояли возле больших и малых столов.
Лакей, поклонившись, вышел. Одетая в шелка женщина, которая могла бы быть сестрой Катрин, с тем же застывшим и правильным выражением лица, сообщила, что еда и питьё скоро прибудут, и что Труда — тут она указала на девушку, стоявшую со скрещенными под передником руками, — полностью в распоряжении благородной высокорожденной леди.
Я поблагодарила её, и она боком, как краб, ушла, сделав по пути три реверанса, каждый чуть менее глубокий, чем предыдущий. Наконец она исчезла за дверью. Я осталась с Трудой, и невозможно было себе представить кого–то менее похожего на Летти. Меня охватила тоска по дому. Захотелось оказаться в своей комнате, на своём месте. И я чуть не заплакала, как девочка, оставленная в пансионе.
В комнате не пахло плесенью, но мне показалось, что я не могу свободно дышать. Массивная кровать скорее угрожала, чем приглашала отдохнуть…
Вздор! Я должна была сдержать своё воображение. Это всего лишь кровать, а у девушки, которая стояла, опустив глаза, с бесстрастным лицом, не могло быть причин встречать меня по–дружески. Лицо у неё круглое, почти детское, волосы плотно заплетены и убраны под чепчик; казалось, что волосы просто вырваны и уложены надо лбом.
— Горячая вода есть? — нарушила я молчание.
Она вздрогнула и впервые посмотрела мне в глаза. Покраснела и указала на ширму.
— Да, благородная леди. Вода — и всё остальное к вашим услугам. Пожалуйста, взгляните, и если что–то не так, я исполню ваши пожелания.
За ширмой выше моей головы оказался большой, похожий на альков камин. В нём горел жаркий огонь. Тут же стояла ванна и множество кувшинов с водой, от некоторых поднимался пар. Я облегчённо вздохнула. Такой роскоши ни в какой гостинице не найдёшь.
Немного погодя, почти избавившись от боли и усталости в теле, с влажными волосами (их искусно промыла Труда, расчесала и протёрла полотенцем), я надела самое тёплое домашнее платье и села поесть. И так успокоилась, что даже кровать не казалась мне больше угрожающей.
Еда оказалась очень хорошей: суп, утка с горохом, небольшие пирожки с фруктами, сыр, трюфели с кремом. Я выпила немного вина и, возможно, от этого ещё больше захотела спать, потому что начала непрерывно зевать.
Но не настолько устала, чтобы не позаботиться о свёртке, который берегла всю дорогу. Ложась в постель, я сунула его под подушку. В нём хранилось золото, выданное мне Вестоном, пергамент, привезённый Фенвиком, последнее письмо бабушки и ожерелье — талисман, который заставлял помнить о том, что привело меня сюда. Таковы были мои тайные сокровища.
Ширму, за которой скрывался камин, свернули, так что я могла видеть огонь. Труда хотела задёрнуть постельные занавеси, но я отказалась. Глядя на огонь, я задремала.
Но не настолько я устала, чтобы не видеть сны.
Снова я сидела в комнате бабушки, завернувшись в шаль, как в день её смерти. Она тоже сидела здесь, но не опираясь на подушки, а гордо выпрямившись и глядя мне в глаза. Её бледные губы не шевелились, но настойчивый и требовательный взгляд явно пытался сообщить мне что–то. Мне стало холодно, но не от холода в комнате, а от ледяного страха, наполнившего меня, не позволяющего ни говорить, ни двигаться.
И тут стена за креслом бабушки изменилась. Вместо знакомого рисунка обоев, который я всегда знала, показалось что–то серое, каменные блоки. И света из окон пропал.
![Андрэ Нортон - Железные бабочки [ Железные бабочки. Удача Рэйлстоунов]](/uploads/posts/books/79674/79674.jpg)